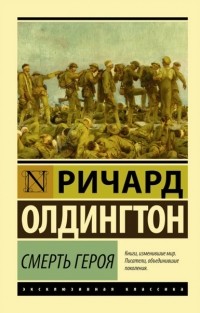Больше рецензий
12 ноября 2017 г. 22:04
963
4 Потерянное поколение растеряно.
РецензияЕсли бы в эту минуту ему сказали: ты уволен из армии, можешь идти на все четыре стороны, – он бы не знал, что с собой делать, и так бы и сидел тут и тупо глядел бы на маки и маргаритки.
Потерянное поколение знакомо мне по Ремарку и Хемингуэю - больше никто о нем мне не рассказывал. Неучтенные жертвы войны, солдаты, возвращённые отчизне, хотят найти дорогу к новой жизни. Но Олдингтон не похож ни на Ремарка, негласного голоса Первой мировой, ни на Хемингуэя: его потерянное поколение - растеряно.
Олдингтон назвал свой роман "джазовым", и части его охарактерихованы музыкальным темпом: аllegretto, vivace, andante cantabile и, наконец, adagio. И "Смерть героя" действительно вышел джазовым. Саган писала, что джазовая музыка - это своего рода освобождение, и этот роман - тоже освобождение во многом: от стереотипа, от идеи национальной трагедии в пользу истории одного отдельного рядового, от страха за высказанное, от старого викторианского калечащего уклада в пользу новой крайности - первых шагов сексуальной революции. Джаз был музыкой толерантности, он родился в скованных наручниками руках, и "Смерть героя" в некотором смысле чистый джаз: высмеивающая, саракастичная, издевающаяся, абсолютно антивоенная история, обличающая поколение, которое сделало своих детей потерянными.
Их враги – враги и немцев и англичан – те безмозглые кретины, что послали их убивать друг друга вместо того, чтобы друг другу помогать. Их враги – трусы и мерзавцы без стыда и совести; их враги – навязанные им ложные идеалы, вздорные убеждения, ложь, лицемерие, тупоумие.
В '29 Олдингтон сказал:
Каждые десять лет Европа будет устраивать пикник с трупами…
Так и произошло. Раскрывшие свои кровавые пасти, обе мировые войны насиловали человеческую природу, порождая за одним насилием - следующее, за одним убийством - следующее, превращая людей в зверей, заставляя их гордиться этим, раздавая им медали и ордена.
"Смерть героя" - это как, если хотите, новая Одиссея двадцатых годов, новая "Трилогия желаний" - вся жизнь Уинтерборна от первого до последнего дня перед глазами, история его родителей, родителей его родителей, его женщин и его друзей. Пролог разрушает всю интригу, которой вовсе не место в такой книге: короткая зарисовка о том, как семья узнает о смерти своего ребенка на войне, лицемерная, нелепая и до смеху изуродованная страница, которая очень контрастирует с тем, как рассказчик делится, где и как познакомился с Джорджем, впервые упоминая его жену Элизабет и любовницу Фанни, выхватывая отрывочные воспоминания из головы - чистые, честные и живые.
Это – отчаянная попытка искупить вину, искупить пролитую кровь. Быть может, я делаю не то, что нужно. Быть может, яд все равно останется во мне. Если так, я буду искать иного пути. Но я буду искать. Я знаю, что меня отравляет. Не знаю, что отравляет вас, но и вы тоже отравлены. Быть может, и вы тоже должны искупить вину.
Первая часть целиком посвящена истории семьи, и она, пожалуй, самая издевающаяся и гипертрофированная, между этим - горькая, обличающая викторианское общество среднего класса. Это злая история о безвольном отце, который убегает от реальности, втягивая в плечи голову, опасаясь сердитой властной жены, взявшей все в свои руки, о том, как Джордж, еще ребенок, пытался соответствовать требованиям матери, лепя из себя драчливого скверного мальчишку, а тем временем:
– Здорово сегодня сыграли в регби, мама. Я им влепил две штуки.
А наверху, у него в комнате, – томик Китса, искусно вытащенный из книжного шкафа.
И, казалось бы, сделав первый шаг по вдохновляющей и - возможно, кто знает теперь - созданной для него дороге журналистики, он прогорает, лишенный поддержки своей семьи.
Третья часть постепенно так или иначе раскрывает то, ради чего все мы сегодня собрались. Джордж пытается искать себя, он молод, он цепляется за журналы, пишет мелкие статейки, знакомится с людьми, которые говорят то, чего он никогда не слышал. Он впадает в крайности, клянет королеву Викторию и вроде бы влюбляется, и тут все заворачивается в клубок, который тут же раскручивается. Четвертая же - ода смерти, меж строк которой читается еще одна - жизни.
"Смерть героя" далась мне чертовски тяжело, я почти месяц читала эту в принципе не очень большую книгу. Огромное количество ссылок и отступлений...иногда мне хотелось закричать, но в итоге помимо того главного, что хотел сказать Олдингтон, я услышала голоса многих из культурного пласта того времени. Ожидая ремарковского настроя, я оказалась в прямо противоположном мире. У Ремарка это люди, которые могут держаться друг за друга, они возвращаются и пытаются делать то, что делали до войны - пытаются снова полюбить, пьют и из всех сил пытаются вновь найтись. У Олдингтона это только один Уинтерборн. Он как та машина на киносъемках, стоит на месте, пока все окружающее проносится мимо окон. Несмотря на то, что значительная часть книги посвящена не ему, все эти люди - только антураж, никто ему не близок и не дорог. Он один на один со своей войной. Его отец - безвольный чудак, мать он не интересует вовсе, и смерть его для нее важна только по той причине, что произведет впечатление на ее окружение. Его жена - еще одна обличающая деталь - не знает ничего о верности, впрочем, как и сам Уинтерборн, только тот стоит посреди этого поствикторианского мира и не понимает, как в нем жить, а Элизабет всячески увлечена всем новым: и новыми идеями, и крайностями первых сексуальных революций. Фанни, его вынужденная любовница, чуть более чувственна, но точно так же далека и чужа ему. Люди появляются и исчезают одинаково быстро. И именно поэтому он для меня самое яркое лицо Первой мировой из всех лиц, что я встречала на разных страницах. Потерянный, не понимающий, куда идти и как жить за окопами, потерявший не людей, а себя - свою жизнь, свою суть, искалеченный и отчаявшийся, побывавший в аду, познакомившийся со смертью тет - а - тет, он посчитал нужным познакомиться с ней ближе. Он ненавидел свое оружие, и его смерть имеет особый смысл. В пику государству, которое сделало его пушечным мясом, не спросив, он сделал свой выбор сам.
И последним хотелось бы сказать, что, кажется, будто Олдингтон готов принять мир таким, лишь бы он не был лицемерным.
Кажется, будто Олдингтон бы молчал, если бы мир перестал притворяться человечным, а сказал бы, как есть:
Все это – гнусное зверство, но мы уважаем зверство и восхищаемся им и признаем, что мы звери; мы даже гордимся тем, что мы – звери.