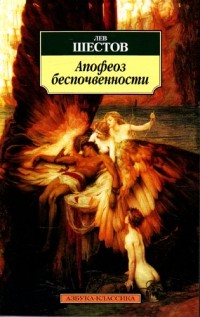Больше рецензий
27 августа 2016 г. 15:27
2K
0 "Апофеоз беспочвенности" Льва Шестова
Рецензия«Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления» – одно из важнейших произведений Льва Шестова, можно сказать, его философский манифест. Выйдя в свет в 1905 году, эта небольшая брошюра стала предметом полемики, и суровая критика в её адрес звучала. Дело в том, что автор «Апофеоза» двинулся против заметного течения русской культурной жизни того времени. Долго и тяжело освобождалась философская мысль от материализма и позитивизма, пророки которых – Чернышевский, Писарев, иные, – превратили эти установки в «символ веры» русской интеллигенции. Нигилизм Базарова – мировоззрение, порождённое антиметафизической направленностью позитивизма, а неприятие идеализма перешло по наследству к народникам и затем к социалистам марксистской закваски, найдя наиболее решительное и последовательное воплощение у большевиков.
Но подспудно шло возрождение метафизики, причём уже не столь откровенно ученической, как это было у гегельянцев и шеллингианцев первой половины XIX века. К концу столетия сначала В. Соловьёв, а затем и другие молодые философы начали формировать собственные метафизические воззрения. Некоторые из них (например, С. Булгаков или Н. Бердяев) ранее испытывали симпатии к марксизму, но затем двинулись в иную сторону. Итогом духовных исканий целой группы философов стал знаменитый сборник «Проблемы идеализма» (1902 г.), ставивший задачу обоснования общезначимой морали исходя из системы метафизики, пути к которой и пытались проложить авторы сборника. Для формирования религиозно-философской основы Серебряного века русской культуры духовные искания этих умов имели огромное значение.
И вдруг появляется книга, автор которой заявляет: «Метафизика, в сущности, мало чем отличается от позитивизма. И тут, и там – закрытые горизонты, только иначе разрисованные и раскрашенные». Произнёс это человек, которого новоявленные идеалисты, вероятно, считали своим союзником – Лев Шестов. Некоторые почувствовали себя словно оправившаяся после долгой болезни птица, взмывшая в тоске по небу в воздух, но получившая с земли заряд дроби. Конечно, птица этим выстрелом не была убита, она ещё долго взлетала, пока, наконец, не села на один знаменитый «пароход» и не уплыла в тоскливое изгнание. Но выстрел был силён, и витающий в воздухе дым пороха грозил затуманить птице взор.
Ясно, что не с позитивистских позиций критиковал Шестов метафизику. Он избрал третий путь, в те времена бывший ещё нехоженой безымянной тропой, несмотря на то, что на ней уже виднелись следы таких титанов, как Достоевский, Кьеркегор и Ницше. Шестов был следующим, и хотя его едва ли можно назвать прямым эпигоном знаменитого немца, общее меж ними налицо. Прежде всего, бессистемная, афористическая манера изложения, не только не чурающаяся непоследовательности и противоречивости, а прямо возводящая их в принцип. И это не случайно, ведь за бессистемностью изложения стоит отказ от построения всеобъемлющей и внутренне непротиворечивой системы мировоззрения, системы, в которую обычно отливается метафизика. Логическая строгость – ложная, химерическая цель, а принцип причинности, особенно перемещённый из сферы философского дискурса в объективную реальность, есть враг свободы. Свобода немыслима без спонтанности мышления и действия, без внезапности и беспредпосылочности.
Такая свобода вызывает подозрение у сторонников «морального» взгляда на мир. Этик и метафизик – это часто один и тот же человек, располагающий тома с соответствующими названиями в неслучайной закономерности. Начинать стоит с решения главных метафизических вопросов, и после теоретического отдела своей философии двигаться к практическому. Поэтому задача нахождения универсального и общезначимого принципа этикам понятна и близка. Причём основной постулат этики должен быть исключительно формален, ибо все попытки определения общепризнанной добродетели показали свою неубедительность. Шестов же не считает нужным обосновывать земной порядок «небесным», и выдвигает другой «принцип»: «уважение к порядку извне и полнейший внутренний хаос. Ну, а для тех, кому трудно выносить такую двойственность, можно учреждать порядок и внутри себя. Только не гордиться этим, а всегда помнить, что в этом сказывается человеческая слабость, ограниченность, тяжесть». Учреждение порядка внутри себя есть слабость – разве не согласился бы Ницше с этой мыслью?
Но в России, пожалуй, ей едва бы сильно посчувствовали. И среди авторов «Проблем идеализма», и среди материалистов, презрительно смотрящих на возродившийся в философии Серебряного века идеалистический академизм. И когда материализм победил, став не любящей конкуренции государственной идеологией, Шестов отбыл в Европу, где утаптываемая им тропинка готовилась превратиться в мощёный толстыми томами тракт и обрести имя – «экзистенциализм». Учение сложное, не цельное и не единое, но разве не таким должно быть учение, реализовавшие подобные шестовским установки? Следующий его великий представитель Хайдеггер ещё раз прочтёт Ницше с его версией нигилизма и нанесёт по метафизике очередной удар как по тому, что сокрыло подлинное бытие, желая обратного. Нравится вам нынешнее состояние отсутствия единого и всеобщего, или вместо заявленной свободы вы чувствуете холод отчуждённости и взаимонепонимания при равнодушном принятии вашей самости, дело вкуса. Но это один из магистральных путей западной культуры, на котором Лев Шестов оставил русский след, не позволив тяжким философским жерновам смолоть свою творческую свободу.