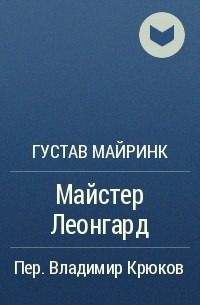Больше рецензий
20 декабря 2015 г. 19:57
887
5 Круговые странствия души через океаны рождений к смерти
Рецензия"У него, заключенного в самой правде, много отнято, но сущность всех вещей пребывает в нем. Никакой случай, ничто в будущем не может дать ему ничего нового; беспрерывно и вечно вновь зеленеющий, живет он в одном мгновении".
Мейстер Экхарт
Время идет, поскольку идет мысль: когда остановится мысль, не будет и времени. Время идет, поскольку совершаются действия: когда заканчиваются действия, заканчивается время. Не сразу, как не сразу успокоится гладь пруда, если бросить в нее камень: пойдут круги, достигнут берегов − но это произойдет: вода успокоится, и движение прекратится. Пространство − понятие относительное и также имеет динамические характеристики. Воплощаясь в бесчисленных игровых формах на стыке времен и пространств, личность движется к окончательному растворению, к смерти, пока наконец не приходит домой. И что она видит тогда?
Со всем этим и многим другим, чем тысячелетиями занималась философия Востока, что являлось в откровениях средневековым мистикам и к чему с разных сторон подходят современная физика и психоанализ, меня в свое время в полном объеме интуитивного прозрения познакомила короткая новелла Майринка "Мейстер Леонгард". Есть такой старый штамп: книга поднимает вечные проблемы... И эта прекрасная новелла, малоизвестная среди более крупных вещей Майринка, − единственное произведение на моей памяти, о котором с чистой душой могу так сказать, поскольку здесь поднимается действительно вечная проблема, то есть та, по которой мы вообще здесь оказались. Бег. Странствие сознания как таковое.
"Мейстер Леонгард" − история законченной эволюции человеческого духа, и написана она невероятно живописным языком. Что я имею в виду, когда говорю о живописности? Отточенную красоту слога Майринка, но не только: невероятную пластичность повествования, когда оно становится волной, порождающей и накрывающей города, события и времена, где-то ускоряющейся, где-то замедляющейся практически до полной остановки. Новелла, охватывающая условно несколько десятилетий, написана в настоящем времени, автор занимает позицию отстраненного созерцателя. Ту же позицию занимает и герой, перед глазами которого перематывается пленка его жизни. Недаром в первом же предложении его представляют так:
Мейстер Леонгард неподвижно сидит в своем готическом кресле и смотрит прямо перед собою широко раскрытыми глазами.
Что здесь обращает внимание на себя (и тем больше, чем дальше мы читаем историю жизни юного Леонгарда) − это два акцента: неподвижность и широко раскрытые глаза. Отсутствие движения и отстранённый взгляд, в котором, как мы увидим, одновременно разворачиваются события прошлого, настоящего и будущего. Майринк начинает с конца, где Леонгард уже, как здесь это называется, мастер (meister), а значит, ему полагается своеобразный трон − в окружении "голых тесных стен", "бедного ложа", костяного ножа, ковриги хлеба и воды. Мы читаем дальше и видим, что даже свет костра "не может удержаться на неподвижности, окружающей Мейстера Леонгарда", видим "мертвенный покой" его рук. Сохраняя абсолютную неподвижность, он присутствует сознанием повсюду, и новелла представляет собой описание его жизни от начала до конца, жизни, которую он видит единовременно и в которую более не вовлечен.
...Но не всегда оно, конечно, было так.
Маленький Леонгард − наследник древнего рода, над которым тяготеет проклятие инцеста и сумасшествия. Его отец − паралитик и мудрец, с которым он никогда не мог установить контакт, мать представляет собой едва ли не лучшее изображение образа Ужасной Матери в мировой литературе.
Я процитирую эту чудную готику
Я процитирую эту чудную готику съехавшего с катушек мира сансары ("блуждания, странствования"):
Он слышит беспрерывное, не умолкающее ни на секунду шуршанье ее черного шелкового платья, которое наполняет все замковые покои, словно бичующее нервы стрекотанье крыльев миллионов насекомых, проникает сквозь трещины в полу и стенах и отнимает покой у людей и животных. Даже вещи покорны чарам ее узких, всегда готовых давать приказания губ - они словно приготовились к прыжку и ни одна из них не чувствует себя на месте. Жизнь мира известна ей понаслышке, она считает излишним задумываться о цели бытия, видя в этом лишь отговорку лентяев; ей кажется, что она исполняет жизненный долг, если в доме с утра до позднего вечера продолжается бесцельная муравьиная беготня, бессмысленное перемещение вещей то туда, то сюда, лихорадочное утомительное движение до самого сна, создающее рухлость всей ее обстановки. Мысль в ее мозгу никогда не доходит до конца, а превращается в
порывистый, бесцельный поступок. Она походит на торопящуюся вперед секундную стрелку часов, которая в своем ничтожестве воображает, что весь мир придет в смятение, если она не обежит свой циферблат три тысячи шестьсот раз по двенадцать в течение дня, нетерпеливо хочет размельчить время в пыль и не может дождаться, когда спокойные часовые стрелки дадут своими длинными руками сигнал к бою.
Столь категоричная наследственность, конечно, не могла не оказать влияния на ребенка. Как в своей остроумной рецензии замечает olastr , у мамы были причины так себя вести, и это действительно так, но на более глубоком уровне, где и сам Леонгард теряет личностные черты и становится странствующим духом как таковым, равно свойственным мне и вам, его мать и отец представляют собой материю и дух, расколотые до невозможности соединения. Если тибетские буддисты в своих яб-юмах веками рисовали архетипические образы, представленные через эротическое слияние бога (метода) и богини (мудрости), то тут мы видим полную противоположность: в отце − бессильные, оторванные от своей физической основы интеллект и дух, в матери − бешеную свистопляску хаоса, не осененную ни малейшим проблеском мысли. То есть вместо метода и мудрости мы имеем слабость и тупость, и Леонгарду, который стал следствием этого эротического союза, таким образом, "везет" с самого начала.
Но и это ведь не всегда было так.
Он читает письма; перед ним развертывается жизнь его отца, борьба неукротимого духа, восстающего против всего, называющегося законом; перед его взором встает титан, не имеющий ничего общего с расслабленным старцем, каким он знал своего отца, фигура человека, готового, в случае нужды, шагать по трупам, громко хвалящегося тем, что он, подобно всем своим предкам, посвящен в рыцари подлинных тамплиеров, для которых сатана является творцом мира и которым одно слово "милость" кажется уже несмываемым позором. Там находятся листки из дневников, изображающие муки жаждущей души и бессилие духа, крылья которого изъедены роями мошек повседневности, невозможность вернуться с тропы, ведущей вниз, в темноту, от пропасти к пропасти, к конечному безумию, исключающей всякую попытку возврата.
Тоже очень важный момент. Духу, даже переполненному силой, нужен вектор движения, чтобы совладать с опасностями пути и не упасть обратно в порождающую тьму. Эти опасности тем значительнее, чем выше этот дух поднимается, чем с более тонкими материями дело имеет.
Мы увидим позже, как для юного Леонгарда таким вектором станет абсолютно случайное имя строителя Якова де Витриако, которого самосохраняющая функция его воображения наделит силой великого мастера, подтолкнув своего владельца ко многолетним поискам истины, определенной в зримую форму; мы увидим, что существенность или несущественность предмета поиска, того или иного учителя, при искренности душевных исканий не будет иметь вообще никакого значения.
Но пока Леонгард − просто очень дерганый и несчастный юноша, которому действительно не позавидуешь. От вечного контроля, слежки и прочей материнской заботы: ("...ребенок не решается отойти от замка, он остается всегда на расстоянии звука голоса и чувствует, что для него нет спасения: один шаг далее − и вот уже из открытого окна слышится громкий зов, удерживающий его") у него, от природы спокойного и созерцательного, развивается неумеренная чувственность и столь же неумеренная глухая ненависть к матери. Оба эти чувства, которые ему годами приходится подавлять, в конце концов берут над ним вверх, погружая его в состояние аффекта. Действие, которое он совершает в этом состоянии, доведенный до полного отчаяния, по-человечески понятно читателю (Майринк здорово умеет нагнетать обстановку) и имеет обоюдоострую природу: с одной стороны, оно рассекает связь с патологической обстановкой его детства, высвобождая его инстинктивную природу для жизни в мире, с другой, неизбежно вонзается-вонзится в него же самого (подчиненные нарративу, мы видим, что эти действия разделяют десятки лет, но он сам видит это, в общем-то, одновременно). Далай-ламу однажды спросили: что, если нужно совершить насилие, если это действительно нужно для важной цели (к примеру, остановить более серьезное насилие)? − и он ответил: ситуация сложна, и нужно сопоставить вред и возможную пользу. Однако за действие все равно придется платить. Так и здесь. Однако если бы Леонгард этого не сделал, его история закончилась бы, не начавшись. Как говорил один из героев "Левой руки Тьмы", нам, к сожалению, приходится топтать чистый снег, чтобы прийти куда-то.
...Молодой граф Леонгард, наследник замка, читая осененные родовым проклятием письма своих родителей, внезапно понимает, что настоящую вражду он испытывает "к сатанинскому чудовищу, в руках которого находятся блага и страдания всего живущего... он хочет бесцельно бродить по свету и биться лицом к лицу с повелителем судьбы".
Проблема тут одна − повелитель судьбы, к сожалению, бесплотен. Его можно увидеть в виде когтистого бога смерти на любом wheel of life, но не то чтобы его можно было победить воинственным звоном оружия или оружием как таковым. Зато у сатаны есть свой герб − крест из четырех бегущих человеческих ног. И с этим бегом Леонгард начинает справляться... бегом.
Длится его первая попытка очень недолго, моментально замыкая действие в круг − "круговое странствование в тумане" − и приводя его обратно в замок. Его тащат на цепи последствия его действий.
Он хочет уйти, убежать обратно в темноту − и не может: непреодолимая сила принуждает его открыть дверь.
Дональд Калшед много писал о таких вот моментах, когда невинность бессознательного обагряется кровью знания. Чего стоит хотя бы миф о первородном грехе. За дверью Леонгард видит плод своей обагренной кровью страсти − это же готика, в конце концов − что поражает его, как молнией, и производит удивительную трансформацию в тексте. Меня крайне занимали такие тонкие, практически постмодернистские вещи, говорящие о гениальной "операторской работе" автора, которую редко доводится видеть в литературе. Мы ведь видим события глазами старого Леонгарда − и здесь он как бы моргает, текст моментально − травматически − диссоциируется от героя, времена и пространства начинают "плавать", перетекая друг в друга в обстановке полного релятивизма, они вращаются вокруг героя, который бродит по ним, маленький, как персонаж древнекитайских пейзажей, на свет появляются самые прекрасные абзацы, которые я когда-либо читала:
Перед его духовным взором рука времени строит города − темные и светлые, большие и маленькие, смелые и трусливые, без выбора, снова разрушает их, рисует их, рисует реки, походящие на скользящих серебряных змей, серые пустыни, арлекинский костюм полей и пашень в коричневую, лиловую и зеленую клетку, пыльные большие дороги, островерхие тополя, благоуханные луга, пасущиеся стада и стерегущих их собак, распятия на перекрестках, белые верстовые камни, старых и молодых людей, ливни, сверкающие капли, золотые глаза лягушек в воде канав, подковы с ржавыми гвоздями, одноногих журавлей, плетни из ломкого хвороста, желтые цветы, кладбища и облака, похожие на вату, туманные вершины и пламенеющие горны: они появляются и исчезают, сменяясь, словно ночь и день, погружаются в прошлое и являются вновь, как играющие в прятки дети, если их призовет дуновение, звук, прошептанное слово.
Мимо Леонгарда проходят страны, города и земли, он находит там приют, имя его рода известно, его принимают то дружелюбно, то враждебно...
Не сосредоточенное на личности ритмическое повествование дает удивительный отдых душе. По гармоничности и отвлеченности я могу сравнить его разве что с отдельными видениями моби-диковского Измаила: "Тогда, в этих водах вечного изгнания, я вдруг утратил жалкую, унизительную память о цивилизациях и городах". Разница, впрочем, остается огромной: кто утратил? − утратил я. Юный Леонгард, воспринимаемый старым Леонгардом отстранённо, как персонаж движущихся картин, не имеющих к нему никакого отношения, кружится в калейдоскопе действий и лет, утрачивая представление о собственной личности:
...он кидается вниз головой в кипящую жизнь, но она выплевывает его обратно; он ищет дьявола - зло вездесуще, но он все же не может найти его родоначальника; он ищет его в своем собственном "я", но этого "я" уже не существует - он знает, что оно должно быть тут, ощущает его каждую секунду − и тем не менее оно мгновенно исчезает, как только он начинает искать его − это радуга, отражающаяся на землю и постоянно исчезающая, расплывающаяся в воздухе при попытке схватить ее.
Леонгард пускается во внешние поиски: ищет учителя, ищет богов, которые избавили бы его от довлеющего над ним проклятия. Монахи, сатанисты, тамплиеры проходят мимолетными образами той же цветной вуали. Эзотерические искания Леонгарда путаны, специфичны, вожделения огромны, но его продолжает вести придуманное им самим имя − и приводит его в конечном итоге к трикстеру, доктору Шрепферу, фокуснику-шарлатану. Хитрый, пронырливый, не чуждый воровства Шрепфер и становится подлинным учителем и проводником Леонгарда благодаря доверчивости и ясному видению последнего: сквозь сомнительные человеческие качества своего конфидента он обращается к "невидимой силе, отражающейся в докторе Шрепфере, как солнце в луже, − и источник живой мудрости открывается перед ним".
Неплохой подход к отношениям, вообще говоря, − смотреть сквозь изгибы характера прямо в ясный свет.
На деле Шрепфер, конечно, не более реален, чем великий учитель Витриако: он считывает бессознательные фантазии Леонгарда и обещает ему претворить те в действительность. Это сам Леонгард, точнее, один из архетипов его психики. Стоит увидеть, что Шрепфер не может быть реальным, как мир, где живет Леонгард, начинает просвечивать насквозь, поскольку в нем ничего, кроме Леонгарда, нет (да, собственно, и не было). До конца остается недолго − Шрепфер провожает его в подвал и представляет Великому Божеству. Пережив мистический экстаз и следом за тем увидев, что пережил он его к иллюзии и вещи, Леонгард через катарсис достигает освобождения, проникновением в истинную реальность искупает проклятие своего рода и становится мастером.
Он ясно сознает, что все − грех или греха нет вовсе, что все "я" представляют собою одно общее "я".
Где найти женщину, которая не была бы в то же время его сестрой, какая земная любовь не является одновременно кровосмешением, какую самку, хотя бы самую крошечную, может он убить, не совершив при этом матереубийства и самоубийства? Разве его собственное тело не есть наследие целых мириад животных?
Нет никого, распоряжающегося судьбой, кроме великого "я", отражающегося в бесчисленных образах; они велики и малы, прозрачны и мутны, злы и добры, радостны и печальны - и все же оно не затрагивается ни страданием, ни радостью, оставаясь в прошедшем и будущем вечно длящимся настоящим − подобно тому, как солнце не делается грязным или морщинистым, хотя его отражение плавает в лужах или на крутящихся волнах, не уходит в прошедшее и не восходит из будущего, хотя воды иссякают и новые образуются из дождя − нет никого, распоряжающегося судьбой, кроме великого, всеобщего "я" − причины − вещи, которая является первоосновой.
Где же найти здесь место для греха? Исчез коварный невидимый враг, посылающий из темноты отравленные стрелы; демоны и идолы мертвы − свернулись, словно летучие мыши при дневном свете.
В финале новеллы Майрик излагает суть восточных недвойственных учений. Читая же ее в ранней юности, я просто узнавала в тексте то, что, в глубине души, знала всегда. Пользуясь его же собственными словами, Майринк дает портрет "утренней зари вечного настоящего, которое кажется таким понятным каждому смертному".
Перечитывая новеллу в последний раз, я, однако, удивилась этим австрийско-буддистским параллелям и с не меньшим удивлением узнала, что Майринк на исходе лет принял буддизм, посвятил жизнь медитации и даже написал книгу о Будде. Сослужил ли Майринк "Мейстером Леонгардом" службу буддизму как учению − сомневаюсь, там ни о каких -измах слова нет. (Хотя в буддизме есть схожая притча о царе, убившем своего отца: тот так страшился попасть в ад, что обратился к усердной практике медитации, увидел иллюзорный характер форм и явлений, включая собственное действие, и тем спасся.) Сослужил ли службу вечности, стоящей вне частностей − безусловно, да. Человек от ума, от воли так писать не может, это чистый интуитивный поток, бьющий из глубин, до которых искусство обычно не чает добраться, представленный в форме готической новеллы. Благодаря Майринку я узнала, какой силой может обладать искусство, не чуждое занимательности, но подчиненное высшей истине.
Кольцевой путь вновь возвращает Леонгарда в родной замок, и он живет там отшельником. Прошлое и будущее уничтожены, у трехликого бога осталось только одно лицо − настоящее.
Он ждет смерти, которая уже ничего для него не значит; он осуществил то, чего ждал весь его древний кровавый род: прошел путь целиком и вырвался на свободу. Леонгард разорвал свои собственные круги, развоплотил содержания своего ума. Ведь убивал он не кого-то, но только себя, боялся кары не кем-то, но собой, его вел не кто-то, но он сам, и блуждал он не где-то, но только в себе самом. И наконец он пришел домой.
Круговые странствия души через океаны рождений к смерти.
_______________________
PS: Цитаты приведены по переводу Анатолия Эйдельзона, рекомендую читать именно его. У Крюкова, на мой взгляд, получилось другое произведение, с другой ритмико-интонационной структурой относительно немецкого оригинала, и здесь это действительно важно.