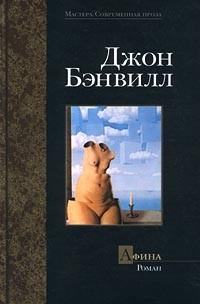Больше рецензий
27 февраля 2015 г. 14:59
361
5
РецензияПорой, прочитав изумительную книгу, мы долго ищем ей достойную альтернативу. Книга за книгой мы блуждаем по лабиринтам слов, а того самого чувства, интимного, волнующего, не испытываем. Мы начинаем отчаиваться, обвиняя себя в снобизме, пишем несколько положительных рецензий на «хорошие» книги , а потом случайно находим ту, с первых строк которой потеют ладони, и знакомое волнение, почти забытое, овладевает нами. Мы бьем себя по лбу, радостно восклицая «так вот же оно», и тут же убираем лишние звезды в оценках недавно прочитанных книг. Со мной это случилось при прочтении «Афины» Джона Бэнвилла. Произведение, написанное 1995 году оказалось завершающей частью искусствоведческой трилогии, первая из которой – «Улики» (1989), а вторая – «Призраки» (1989), на русский язык непереведенная.
В романе автор обращается к реальным событиям, произошедшим в Ирландии в 1986 году.
Тогда из дома-музея Рассборо (Russborough House), где были выставлены картины коллекции и филантропа сэра Альфреда Бейта, было украдено восемнадцать шедевров живописи, среди которых находился особенно ценный экспонат: «Портрет доминиканского монаха» кисти Рубенса. Лидером преступной группировки, совершившей это преступление, оказался некий Мартин Кахилл по прозвищу «Генерал». Он был знаменит тем, что провоцировал полицию различными экзотическими маскировками и никогда не показывал своего настоящего лица.
Благодаря фантазии Бэнвилла, в «Афине» этот человек становится прототипом персонажа по имени «Папаня», тайного руководителя похищения восьми бесценных картин из поместья Беренсов. В эту загадочную историю оказывается вовлеченным и Фредди, который покинул дом профессора на острове, обосновался в Дублине и действует в романе под именем Морроу. Именно его глазами мы видим все происходящее. Он мечется по закоулкам собственной дущи, открыто игнорируя читателя, обращаясь к некой А.
На ней было черное платье с короткими рукавами и туфли на немыслимо высоких каблуках, и она семенила на них с примечательной быстротой, сумку прижав к груди, вытянув тонкую шею и пригнув голову, словно заглядывала за край пропасти, которая при каждом ее звонком шажке отступала перед нею. Очень бледная, черные волосы подстрижены, как у пажа (моя Лулу!) [2] , узкие плечи высоко вздернуты, и очень тонкие ноги; даже с такого расстояния мне были видны маленькие белые руки с розовыми костяшками суставов и кое-как намазанными лаком обгрызенными до мяса ногтями. В этот погожий осенний день она выглядела странно в черном платье, в черных чулках со швом и на блестящих каблуках-шпильках; новоявленная вдова, подумал я, спешит к адвокату, где будут зачитывать завещание
В аннотации книга заявлена как детектив. Однако, любители этого жанра будут разочарованы, ибо интрига в романе подается как соус к основному блюду, богатством вкуса не отличающийся. Лишь одна пикантная нотка – разоблачение героя-рассказчика, не сумевшего отличить копию картины от ее оригинала – вкус ее непривычен и быстро забывается. Детективная линия настолько вялая, что если бы не аннотация, я бы и не поняла, что читала детектив.
Я архитектор и привыкла мыслить образами, поэтому аллегорически представила бы «Афину» в виде причудливого здания времен модерна
Здесь нет цвета – лишь образ цвета, нет людей – лишь их тени, живо только воспоминание. Но оно такое реалистичное, что, кажется, можно трогать его руками, чувствовать запах, испытывать трепет и отвращение.
Бэнвилла называют ирландским Набоковым. Стиль повествования действительно схож. По части черного юмора они просто братья. Однако сюжеты Набокова более закончены, кинематографичны, у Бэнвилла более размыты. Я бы сказала, что в Лолите сюжет вписан в общую линию повествования , в Афине он вторичен: есть воспоминания ГГ об А, а есть другие персонажи и их истории, подобно незваным гостям, вторгающиеся в эти воспоминания. Но не только Лолита приходит на ум при чтении книги. «Игра в классики» Картасара тоже наполнена гротескными образами, а во взаимоотношениях главных героев есть тот же надрыв, недосказанность. И я не могу не вспомнить эти строки Картасара
Оливейре нравилось предаваться любви с Магой, потому что для нее ничего на свете не было важнее и еще потому -- это трудно понять, -- что он чувствовал себя как бы внизу, под наслаждением, которое испытывал, и, дождавшись своего мига, отчаянно цеплялся за него, пытаясь продлить, -- это было все равно что проснуться и точно знать, как тебя зовут, -- а потом он снова впадал в несколько сумеречное состояние, которое Оливейре, больше всего на свете боявшемуся всяческого совершенства, очень нравилось, но Мага искренне страдала, когда он возвращался к своим воспоминаниям и ко всему тому, о чем чувствовал смутную необходимость думать, но думать не мог, и тогда ей приходилось целовать его долгими поцелуями и разжигать к новым ласкам, и, уже новая, ублаготворенная, она словно вырастала в его глазах, и завладевала им полностью, превращаясь в обезумевшее животное, и, упершись взглядом в пустоту, заломив руки за спину, внушала мистический страх, и, точно катящаяся с горы статуя, цеплялась ногтями за ускользающее время, и задыхалась, всхлипывала, стонала без конца, без конца. Как-то ночью она впилась ему в плечо зубами до крови, потому что он, лежа рядом, отдалился от нее и забылся своими думами, и что-то произошло между ними без слов, какое-то соглашение, Оливейре показалось, что Мага ждала от него смерти, но ждала не сама она, не ее ясное сознание, а какая-то темная сила, крывшаяся в ней и требовавшая уничтожения, -- разверстая в небо пасть, что крушит ночные звезды и возвращает обеззвездевшему миру все его вопросы и страхи. Но только однажды он, почувствовав себя мифологическим матадором, для которого убить быка означает вернуть его морю, а море -- небу, только однажды он надругался над Магой; то было долгой ночью, о которой они потом почти никогда не вспоминали, он поступил с ней как с Пасифаей, а потом потребовал от нее того, чего не стесняются только с самой последней проституткой, а после вознес до звезд, сжимая ее в объятиях, пахнущих кровью, и всосал в себя тень ее живота и ее спины, и познал ее, как только мужчина может познать женщину, истерзав своей кожей, волосами, слюной и стонами, опустошил, исчерпал всю, до дна, ее великолепную силу, и швырнул на простыню, на подушку, и слушал, как она плачет от счастья у самого его лица, которое огонек сигареты вновь возвращал в эту ночь и в этот гостиничный номер
И тут же Бэнвилл
Хлыст был нашим грехом, нашей тайной. О нем мы не говорили, не поминали ни словом, чтобы не вторгаться в магию. Потому что это была магия, не хлыст, а волшебный жезл, заколдовывающий плоть. Когда я им орудовал, она не смотрела, а лежала с закрытыми глазами и только мотала головой, туда-сюда, приоткрыв рот в экстазе, как Святая Тереза у Бернини, или устремляла взгляд куда-то еще, в камеру пыток своей фантазии. Она поклонялась боли, для нее не было ничего реальнее страдания
Конечно, я бил ее; не так чтобы очень сильно, но достаточно сильно, как и следовало ожидать в конечном итоге. Сначала она лежала смирно под моими любящими ударами и только чуть-чуть вздрагивала, зарывшись лицом в подушку и раскинув руки и ноги. А после велела мне подать зеркало с моего рабочего стола и разглядывала у себя на плечах, ягодицах и боках красные отметины, которые через час потемнеют до грязной синевы, и проводила пальцем по огненным желвакам, оставленным моим ремнем (…) В конце концов она теряла терпение и настойчиво выставляла зад, как разомлевшая кошка. Постепенно я осмелел, помню, как первый раз заставил ее охнуть. Я представлялся себе свирепым чудовищем Гойи, косматым, кровавым, непобедимым. Морроу Беспощадный. Смешно, конечно, но в то же время и не смешно ничуть. Я был чудовище, но и человек. Она извивалась под моими ударами, скривив лицо и больно прикусив собственную руку. Но я не переставал, о нет, я бил еще и еще. При этом с меня что-то спадало, годы отваливались, отслаивались и отлетали с каждым притворным ударом. А после я целовал отпечатки веревки на ее запястьях и щиколотках, заворачивал ее в старый серый плед, и мы сидели на полу, голова к голове. Я сторожил ее, а она лежала у меня на руках с закрытыми глазами, иногда спала. Ее дыхание холодило мне щеку, ее рука вздрагивала в моей горсти, как что-то живое, умирающее
Все герои романа прорисованы четко, автора нельзя упрекнуть в недостаточной достоверности в изображении персонажей. Однако они мелькают на страницах один за другим, исчезают, снова появляются. Но вся эта «мышиная возня» меркнет в голове героя перед его доминирующей страстью. Иногда его одолевает страх быть пойманным, но ГГ явно недооценивает реальность, и она ему гораздо менее интересна, чем собственный придуманный мир
Я в глубине души так и не смог до конца уверовать в существование реальности, как ее описывает физика со своими мгновениями неподвижных и ясных прозрений; ведь невозможно сделать срез живого и движущегося мира, поместить его между стеклами под микроскоп и тихо, спокойно рассмотреть. Какое там! Все течет, все, что есть, находится в неостановимом движении. Как это страшно, если подумать. Но еще страшнее отстать, оторваться от этого движения. Речь — один из способов зацепиться и не остаться позади
Единственный запоминающийся образ – это тетя Корки. Рассказывая о ней, ГГ отменно поупражнялся в технике черного юмора
Свежерасчесанный рыжий парик увереннее сидел у нее на голове, заново вырисованное малиновое насекомое, хоть и криво, но распласталось на губах. Днем она слезала с кровати — процесс сложный и длительный — и в своем порыжелом черном выходном платье садилась в гостиной у широкого окна наблюдать, как по тротуару спешат люди и машины дерутся за место у кромки тротуара, точно рассерженные тюлени на берегу. Наскучив зрелищем человечества, она обращала взор к небесам и следила за медленным ходом дымных, льдистых туч над крышами зданий. Удивительно, до чего быстро я притерпелся к ее присутствию. Ее запах, букет запахов — пудры, старой одежды и чего-то слегка прокисшего — бросался у порога мне навстречу, как чужая мирная собачонка
Забрав тетушку из дома престарелых, Морроу проявил акт великодушия. Да, он не готовил этого и не желал, но и не отказал бедной старушке в приюте на склоне ее лет. Он не циник. Сцены быта тети Корки в доме динамичны, комичны, не лишены очарования.
С другими героями сложнее. Их внутренние мотивации остались неясными, а учитывая, что я не читала две предыдущие части трилогии, детективная составляющая романа меня мало интересовала. Может быть, это и хорошо. Я смогла беспристрастно воспринять книгу, не настаивая на раскрытии темы с похищением картин. А вот описание последних, напротив, вызывало самый живой интерес.
Вообще для меня Бэнвилл стал для меня открытием: мастер атмосферы, эстет, хужодник.