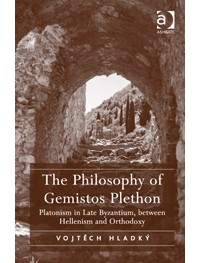Больше рецензий
9 июля 2014 г. 22:43
123
5
РецензияПервую половину я читала и недоумевала, т.к. книжка написана по диссеру, но никакой научной новизны я там не видела, просто пересказ плифоновской философии в систематизированном виде, автор использовал Вудхауза, Тамбрун и др., хотя как-то редко на них ссылается. Т.е. как пособие по философии Плифона удобно, но на диссер не тянет совсем.
Но новизна началась со второй половины, когда автор взялся за собственно религиозные взгляды Плифона. И стала я то и дело удивляться. Автор, похоже, взялся доказать, что Плифон не только не был язычником, но вообще был прекрасным православным, за коего его все и считали (в т.ч. напр. Иоанн Евгеник). Все лица, считающиеся обычно проязыческими учениками Плифона, отметаются в качестве таковых (особенно меня удивило, как быстро автор разобрался с Ювеналием в этом смысле, прямо в духе Каждана: не похоже, нельзя сказать, ничего толком не известно; с соображениями Медведева на эту тему он явно не знаком). Все главные противники Плифона, прежде всего Схоларий, разоблачаются как не знавшие его близко (что правда), и в общем автор заявляет, что они все просто были рьяными аристотеликами и потому на Плифона в основном и нападали, а "язычество" это мол предлог. А Схоларий еще и лично питал к Плифону неприязнь и был фрустрирован тем, что в Ферраре и Флоренции Плифон вместе с Марком Ефесским защищал православие, тогда как Схоларий колебался с линией партии, за что его потом Плифон и Иоанн Евгеник, уже после смерти Марка, укоряли и презирали. Никакого проязыческого кружка Плифона в Мистре не было. Ничего о грядущем торжестве новой религии Плифон в кулуарах Флорентийского собора не говорил, это выдумка Георгия Трапезундского. И вообще "ничего не было".
Я прямо уже приготовилась к тому, что автор скажет, что и "Законов" либо не было, либо их Схоларий сочинил, чтоб Плифона опорочить ))))
Ну, это я утрирую, но "только слегка". На самом деле меня такой нестандартный подход удивил. Выглядит... радикально. Нельзя сказать, правда, что автор бездоказателен, у него есть доводы в пользу своей позиции. Но они в определенной части психологические. Типа, как в маленькой Мистре мог бы существовать языческий кружок при православных деспотах, и как могли Плифона, если б он был известен как язычник, приглашать на Флорентийский собор для защиты православия? Так это вот и интересно как раз - как! )) А автор говорит: а никак, не могло такого быть, значит, Плифон язычником не был или, по меньшей мере, не был широко (или вообще) известен как таковой. А все эллинистические аллюзии в его речах и отсутствие христианских мотивов - просто дань культурному эллинизму итп. Но я бы тогда спросила: если никого не удивляло и не возмущало, что верховный судья Мистры и приближенный императоров в своих официальных речах не выказывает никакой дани христианству, то почему тогда должно было возмущать существование проязыческого кружка? Можно подумать, можно провести четкую грань между "настоящим" язычеством и "символическим"! Или как будто один и тот же человек в разных ситуациях не может говорить разное, тем более, Плифон не был церковным деятелем, так ему в этом смысле было вообще "все можно". Или почти все ))
Да вот, возьмем, чтобы далеко не ходить, меня: я в жж чего только ни пишу на религиозную тему, но при этом прихожу в храм и читаю "по писанному", и никто меня до сих пор не заанафематил и не отлучил ни от чего ))) Причем я могла бы даже еженедельно собирать на чай знакомых и впаривать им какие угодно взгляды, ничего бы не изменилось. А отправь меня на какой-нибудь собор с миссией кондовой защиты православия, я отлично буду там защищать его, ибо теория мне прекрасна известна. Но что это говорит о моих личных взглядах? Ну, скажут, это сейчас время такое, а тогдаааа... Ну а чего тогда? Еще несколькими веками раньше Пселл мог себе позволить в разных ситуациях самые разные вещи говорить и писать, и чего? Итала, правда, осудили, но в те времена еще была возможность соборы собирать, а уж в 15 в. всем было явно не до того. Да и вообще, судя по источникам, большинство византийцев были в плане религии достаточно пофигистичны. Ну, был некий процент любителей побороться за истину, способных при случае набрать некую толпу сторонников, но это в общем и все. Да и в такой борьбе было много политики и экономики, а не одна бескорыстная любовь к Истине. А частным образом верили кто во что горазд, а то и ни во что. Так было и в первые века, и в 9-м, и в 14-м, и всегда. А что до язычников 15 в., так Ювеналий явно не один такой был, но помимо него не известно о каких-либо пострадавших. И язычество в Византии вполне себе существовало - еще за несколько столетий до того люди себя в жертву Посейдону приносили, не хухры-мухры. А то так можно дойти до утверждения, что Плифон вообще паламитом был, только тайным ))
Конечно, полного текста "Законов" мы не имеем, но уж всяко христианским произведением они не являются, и к тому же были известны (по кр. мере, частями) при жизни Плифона разным людям, включая и Схолария. А Схоларий ведь ну никак приближенным Плифона не был, ни другом, ни учеником. Хладки, правда, говорит, что если б у Плифона реально был кружок, рукопись "Законов" не попала бы в итоге к деспоту Мореи, а потом к Схоларию. Это аргумент, но недостаточный, мне кажется. Что мы вообще знаем о тогдашней ситуации? Мы о Плифоне-то самом мало что знаем, какие-то легенды да байки о его юности и учителях - все от того же Схолария.
Интересно вот, что Хладки передатировал смерть Плифона 1454 годом - и кажется, это правдоподобно. Значит, падение Империи Гемист застал, вот как.
А было бы таки прикольно, если б в итоге где-нибудь обнаружилась полная рукопись "Законов"! Отрывки-то до сих пор находят. А рукописей неисследованных, подозреваю, еще полно.
Но в итоге нет, не доказал Хладки, что Плифон был тайным паламитом ))) А вообще забавно, конечно. Он пишет: наши понятия о христианстве меняются - вот, в 19 в. ученые считали деятелей Возрождения язычниками, но современная наука их реабилитировала и теперь они считаются "добрыми христианами". И только Плифон не реабилитирован до сих пор. И вот, Хладки вроде как хочет его тоже реабилитировать. И выдвигает предположение, что:
1) "Законы" могли быть просто "литературной игрой" типа "Законов" Платона, которые так же не могли быть воплощены в жизнь, но просто были формой для обыгрывания разных философских идей; так и Плифон, очень увлеченный эллинской философией, использовал такой своеобразный формат, чтобы лучше изучить платонизм; гимны богам - это подражание Платону; "софисты", которых он обличает - м.б. вовсе не христиане, а те из античных философов, которые не придерживались взглядов Плифона/Платона на переселение душ и вечность мира,
- на мой взгляд, выглядит это построение довольно-таки неубедительно;
2) даже если "Законы" и нельзя примирить с христианством, это все-таки произведение, написанное Плифоном до Фер.-Фл. собора, где он защищал православие и якобы с той поры стал "firm Christian", каковым и оставался до конца жизни - что якобы, в частности, видно из надгробной речи в честь императрицы Елены, произнесенной в 1450 г., где он использует некие темы из "Законов", но так, чтобы они звучали по-христиански,
- тоже не особо убедительно, а что касается речи в честь Елены, так я ее недавно перевела - в ней вообще ничего христианского нет, ни намека, ни сравнения, все только эллинские и античные, уже одно выражение "некий единый Бог" звучит странно, особенно с учетом того, что слово произносилось, очевидно, перед христианской аудиторией, да еще довольно нейтральное упоминание самоубийства, и вообще все рассуждение подошло бы под любую религию и куда больше согласуется с Плифоновской идеей об "общих понятиях", чем с христианством и его исключительностью.
В итоге Хладки несколько отступает и признаёт, что мы не можем знать доподлинно верований Плифона, что "Законы" все же трудно примирить с православием и что Плифон в своем увлечении платонизмом пошел гораздо дальше всех итальянских гуманистов, так что если он и был христианином, увлеченным эллинством, то зашел так далеко, как никто ни до него, ни после.
Однако далее Хладки оговаривается, что мы также не можем знать, какова была истинная цель написания им "Законов", поэтому, мол, более разумно судить о верованиях Плифона по его деятельности в защиту православия и предполагать в нем "доброго христианина", пусть и увлеченного язычеством, т.к. в нужное время он встал на защиту веры итп.
Он также приводит примеры деятелей европейского Возрождения, которые увлекались очень сильно язычеством, но при этом не переставали быть христианами. Например, мол, Кириак Анконский - "несомненно был добрым христианином", хотя вовсю пользовался языческой терминологией, именами эллинских богов, молился Меркурию итп.
Тут у меня, конечно, вопрос возник: а что, собственно, автор (и те, чьи мнения он воспроизводит) вкладывают в понятие "good Christian"?? Просто формальную принадлежность к церкви что ли и способность при случае рассуждать формально в рамках христианского богословия? Если можно быть "good Christian" и при этом молиться языческим богам, то, конечно, тогда и Плифон будет "good Christian", но только какое отношение это имеет к христианству - и тем более к паламитскому его варианту, который как бы считается эталоном православия?
В общем, сплошное изумление у меня от таковых рассуждений. Я уж не говорю о том, что вообще непонятно, зачем Плифона "реабилитировать". Он, кажется, и так хорош )) Или это просто такое стремление избавиться от разрыва шаблона и вписать-таки Гемиста в общую струю? Смешно.
Но в целом, из этой книги неминуемо следует, что загадка Плифона остается-таки неразгаданной. Смешно, что, судя даже по не слишком многому мною прочтенному, видно, что писаниям и поведению его даются диаметрально противоположные истолкования. Последний цветок византийской философии поистине обладал неповторимым и нерасшифровываемым ароматом )) Хотя мне пока что более убедительными кажутся рассуждения Брижит Тамбрун. А Хладки, почему-то, хотя порой и ссылается на нее, не дискутирует с ней никак, при том что излагает противоположные ей интерпретации. Ну, а Медведева он и вовсе не читал - даже в библиографии не значится.
Надо, пожалуй, на это дело рецензию в какой-нибудь журнал написать.