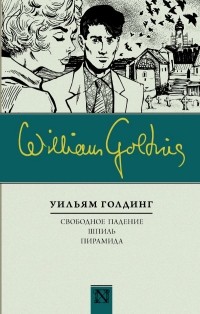Больше рецензий
31 марта 2023 г. 11:30
55
4.5
РецензияНачав читать «Свободное падение» думала, что Уильям Голдинг может открыть для меня новые границы психологизма, настолько он стал показывать тонкие образы персонажей, однако заинтересованность уже по ходу чтения второго романа стала пониманием, что Голдинг пишет одну и ту же историю, рассказывая ее с разных сторон, перемешивая одни и те же образы и описывая одни и те же состояния в одной и той же композиции с одними и теми же метафорами.
Сюжет в двух из трех книг показывается как прокрутка слайдов или кинокадров. Она начинается в детстве, где большое пространство занято физически крупногабаритной матерью, благоговением перед гулом труб водоснабжения и драками. Каждый слайд – это комната, в которой центрального героя либо сопровождает колоритный спутник, либо существует объект для благоговения или соперничества, а к концу одиночество героя требовательно всматривается во тьму. Комнаты, с которыми герой себя олицетворяет тоже имеют постоянных соседей - психушку, храм или трущобных соседей. По мере взросления жизненная неопределенность наполняется сотканными страхом фантазиями, но по мере омрачения зрения герой начинает обращаться к тем воспоминаниям, где над связанным с влечением к женщине вдохновением довлеет материалистическое видение мира, и на место родителей встают учитель физики или атеистического толкования Библии, поглотивший противоположный пол наставник или святой, Таинством возвращающий героя к вере сущей от веры амбициозного мечтателя.
В первом романе сборника происходит увлекательное приключение ребенка в темную пропасть. Голдинг очень правдоподобно описывает состояния наивности, взрывы впечатлений, импульсивность юности. Мир состоит сугубо из открытий. Но вдруг спустя какое-то время начинаются буквально похороны глаз: сначала не обращаешь на их описание внимания, но потом становится ясно, что каждый раз глаза у писателя называются все более странными выражениями и жуткими метафорами, вместе с человеком погружаются во тьму, становятся впадинами. Казалось, что это обусловлено тем, что в «Свободном падении» главный герой – художник, но нет: в других все то же самое – у персонажей всегда есть жуткие глаза, либо их застилает мгла. В «Пирамиде» герой тоже творческий – музыкант. У обоих существует недосягаемая Беатриче из «Новой жизни» Данте, в «Свободном падении» ее даже зовут Беатрис. Для Данте Беатриче стала путевкой в духовность, для героев Голдинга влечение к девушке заканчивается половым актом(или одобрением сексуального падения женщины в «Шпиле»), после чего разверзается пропасть в бездну. Причем герои откровенно ищут Бога и открыто заявляют, что он - их соперник. Заполняющая страсть (будь то похоть, ревность или гордыня) требует борьбы не с собой, а с Богом, при всем желании обрести высшую духовность. И эта борьба после возврата в материальность просто становится войной с одиночеством.
К концу герой всегда принимает заключение о собственном озлоблении, он видит ту же злобу и в других и как будто примиряется с неизбежностью того, что вообще-то жизнь – это просто атомы и гравитация, а над детским желанием увидеть за их горизонтом что-то поэтическое, услышать музыку жизни, увидеть ее подлинность, одерживает победу какой-нибудь «судья», донимающий героя допросом о его грехах. В «Свободном падении» мальчика прожаривает училка атеистической версии Закона Божьего, которой не понравилось, что Сэм Маунтжой смотрит дальше физических объяснений чудес, в «Шпиле» - церковные власти тыкают в денежные аферы и прекращение служб настоятеля храма Джослина, в «Пирамиде» - родители отворачивают сына от его вдохновения в сторону естественнонаучного диплома, оставив музыку на правах хобби. Все они требуют отвернуться от того, что герой выбирает путем своего возвышения: благоговения перед святостью (от гудящих труб до благочестивых ликов), приверженности символам (причем символика «Шпиля» прямо соответствует христианской, начиная с приравнивания тела к храму, только, наоборот, приравниванием храма к телу; возопящие камни – образ утраченной молитвы; то же в «Свободном падении»: образ Египта как ада и золота – как духовной истины), тяги к созданию искусства (ведущая к раю музыка). У героев происходит обрушение себя и того, что они олицетворяли как себя, а поиск опоры против разрушения – это и поиск человека, и поиск вселенной, которая «подойдет для того, чтобы наша темная сердцевина сохранила в ней свое равновесие».
В двух из этих романов есть персонажи без лица: в первом им становится «святая» Беатрис, а во втором есть прямо-таки называемый Безликим персонаж. Оба они, как ни странно, обезличены, так как воплощают в себе Образ Божий. Безликим у Голдинга является и персонаж-ребенок, не способный посмотреть в зеркало и как-то себя определить. Люди с лицами либо имеют странно описываемые глаза («могильные ямы глазных впадин», «глаза оскалены, как зубы», «два старых пожелтелых бильярдных шара, и на каждом очко – зрачок», «окончательно облысевшие глаза»), либо «ходят в шляпах». В плане шляп сборник даёт введение в «Свободном падении» - что человек по жизни надевает то шляпы материализма, то коммунизма, то еще чего-либо, а уже в «Пирамиде» хождение в шляпах прямо и называется ряжением в образы, за которыми нет жизни, нет правды, которую герой алчет. Шляпы превращают обширную вселенную, которую готов познавать человек, в темную узкую комнатку, полную тьмы. А из-за того, что центральные персонажи не справляются с одиночеством, создаваемым бездной внутренней тьмы, проблема воли становится переходом, где герои совершают поступки чужими руками: либо неосознанно ведомы, либо требовательно ведущие. Творческий дух извращается в насилие над другим. В какой-то момент выход в тьму становится поглощением в себя противоположного пола. Герой хочет быть другим человеком – конкретно тем, с кем общается, и, в силу гетеросексуальности, другого пола. В «Свободном падении» фантазии об этом были детскими шутками или поводом к совокуплению в юношестве, а уже в «Пирамиде» получает оформление в терпящей духовное бедствие семье.
Проблема всех трех романов – их концовки. Они заканчиваются неким «пониманием» того, что ясно еще до того, как герой начал вспоминать. Нечто вроде признания неизбежности поглощенности тьмой, безнаказанности, порочного круга греховности, вызываемой предыдущей виной. Читать каждую описанную сцену удивительно интересно, хотя они ничего не значат для сюжета, но они дают ту подлинность происходящего, какая есть в жизни. Образы людей очень правдоподобны, особенно их психологизм. Поэтому, что касается воспоминаний, мне в какой-то момент показалось, что именно в них и заключена загвоздка падения: герои отходят от реальности сначала в мир вдохновения, а потом в омут памяти, искажаемый той извращенностью, которую с возрастом породила их основная страсть. Главы детства этим не обременены. Более интересным оказался роман «Свободно падение», где взрослый Сэм Маунтжой смотрит на себя и после каждой главы-слайда говорит читателю, что здесь он всё ещё невинен, и у него есть воля, а в какой-то момент уже не дает ответа на вопрос «Здесь ли я утратил свободу?». В двух остальных романах книги буквально повторяются истории персонажей и их описание, всегда есть чья-то давящая на восприятие смерть, помутняющая сознание взбалмошная женщина и всё проясняющий наставник на путь истинный.
По итогам прочтения мне открылись новые горизонты понимания психики взбалмошных и импульсивных личностей, в каких-то моментах становилось смешно от реальности диалогов и ситуаций. Никогда не понимала, что должно творится в голове подобных людей, но конкретно персонажей Голдинга я часто встречаю (и посылаю) по жизни, а теперь мне принесли на блюдечке открытие такого человека, которое в повторении из книги в книгу их типичных загонов зазвучало как схема из жизни. Но печальный минус книги в том, что от нобелевского лауреата хотелось бы большего разнообразия.