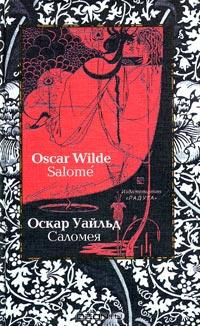Больше рецензий
6 апреля 2013 г. 19:03
55
5
РецензияЯ очень трепетно отношусь к Саломее. Не устаю возвращаться к ней мыслями, срослась с ней. Одна лишь простая сцена - сцена разговора Саломеи с Иоканааном - в какой-то момент перевернула все мое естество. В "Саломее" есть весь идеализм европейской культуры, весь ее мистицизм. Вся тоcка по идеальному.
Эрос в "Саломее" - каким бы трагическим ни был его пафос - это движущая сила всего бытия. Уайльд с предельной, необъяснимой точностью вырисовывает все возможные способы проявления этой движущей силы - и страх перед смертью Ирода, и алчность и похоть Иродиады и придворных, любовь к богу - и любовь к женщине. Любовь к недосягаемому.
Историю Саломеи - как и историю Гамлета - можно давать в любых декорациях: от строго классических до абсолютно модерновых. Они не потеряют от этого ни шарма, ни актуальности, ни содержательности. Потому что и Гамлет, и Саломея - это истории вне хронотопа. Все, что характерно исторической эпохе, - лишь деталь незначительная в своей сути. Это трагедии духа. О трагедии Гамлета я заговорю когда-нибудь потом, сейчас же - трагедия Саломеи. Хотя уже сейчас отмечу, что есть определенное сюжетное сходство между "Гамлетом" и "Саломеей". Но Шекспир все же был более увлечен этическим аспектом истории, чем эстетическим.
Трагедия Саломеи - это Эрос, движущая сила. Движение подразумевает пространство, в котором это движение происходит. Пространство же - конечно, оно имеет определенные лимиты и точки, иначе оно немыслимо.
Саломея начинает в обыденности, в конечной реальности, которая предстает перед ней грязью, насилием - грехом. Но она не протестует против этого - не этически. Уайльд не вводит греха, он вводит Красоту - как явь, как данность, как то, к чему должно стремиться. Оттого Саломея, слишком хорошо знающая значение взгляда Ирода, говорит, о Луне, что та "обладает красотой девственности, что она никогда не отдавалась мужчине, в отличие от других богинь". Луна же, кстати, символ-на-уровне героя: от нее нельзя отказаться, потому что в ней Уайльд заключает тождество Красоты и Смерти, также как одновременные реплики пажа Иродиады и Молодого Сирийца устанавливают тождество Луны и Саломеи. Саломея - это Луна. Недосягаемая. Но, увы, сама царевна живет на земле и естественно отличается от того, чем хотела бы быть. В пространство этой тоски, тоски по совершенству единственного, что у нас есть - по собственной цельности, непорочности, по тождеству Внутреннего и Внешнего, врывается Голос. Голос, который наводит страх на Тетрарха, Голос, поносящий бранью ее мать. Голос, противопоставленный и Луне, ибо он - земной, и душной комнате, полной римлян, евреев, египтян, сластолюбцев и грубых гордецов. Земной Голос, противопоставленный мирскому. Обладатель этого голоса - одной ногой на той стороне мира, он умрет, он ожидает казни.
И Саломея вожделеет его.
Она вожделеет его, потому что не умеет по-другому. Она через другого - через несчастного молодого сирийца Нарработа открывает путь к тому, от кого в последствии не сможет отвести глаз. Саломея лжива - и устремлена к цели. Она вышла из клетки-комнаты и выпускает из клетки-темницы того, чей Голос ее пленил.
Она выпускает его из темницы - и взгляд его кажется ей ужасным, потому что в его глазах нет любви к роскоши, нет любви к ней, лишь презрение. Иоканаан не видит Саломею. Она безразлична ему. И ей это - ново. Но он "подобен лунному свету". На нем - печать идеального. Она приближается к нему - и он замечает ее. Но она - порочна. Порочна по рождению и воспитанию. Иоканаан отрицает её, её порочность, её право на спасение. А она ему в ответ - говори, говори, говори, мне, обо мне, что угодно, о ком угодно, говори только. Интимнее и бесстыднее просьбы я не слышала. Что там происходит вокруг? - уже не важно, уже все равно, лишь бы слышать голос, соприкасаться с этим светом. Она просит у него совета - и тут бы вспомнить ему, что он - не только глас Божий, понять её... Но так же, как человека отвергает вечность, так и Иоканаан отвергает Саломею. И Смерть с уровне созерцательного, с высоты лунного диска, опускается на дворец Тетрарха. Нет для Саломеи больше ничего - она растворилась в Голосе. Она отдалась ему, потеряв последние крупицы своей непорочности. Она одержима теперь. "Я люблю твое тело, Иоканаан," - говорит она, но понимает, что не любит его тела. "Тогда я люблю твои волосы," - пробует она, но и тут чувствует фальшь. "Я люблю твои губы! Я поцелую твои уста!" - восклицает она - и все, дальше, выше она уже не может пойти. Губы - ее потолок, потому что с губ слетают его слова. Его губы, его алый рот, в сознании Саломеи отождествляется с его голосом.
"Thou art accursed, Salome, thou art accursed," - говорит Иоканаан, уходя обратно в свою клетку. Но мир не останавливается. Луна сходит с ума, Диана, непорочная Диана, сходит с ума - и ищет любовников. Так это или Ирод видит лишь то, что отражает его самого? Саломея сходит с ума: она совершила - уже совершила, то чего боялась, что презирала, - она одержима мужчиной. Она одержима вожделением. А ведь хотела-то сколько!
И клетка приходит к Саломее. Её темница - Ирод и его двор.
Ирод - неоднозначен. Он слышит и видит то, что не под силу увидеть другим. Он - тоже обреченный. Он тоже умрет - и смерть его уже предсказана. Он наполовину мертв уже. Его Эрос - это Эрос алчущий, это похоть. Ирод противопоставлен Иоканаану. Один - в Боге, для Бога и Богом, другой - в себе, для себя и собой. Они оба - противопоставление Божественного и мирского, возвышенного и пошлого. И между - Саломея. Ирод подхватывает и развивает тему соприкосновения - но удивительным образом: дай мне испить вина, которого ты касалась губами, позволь мне есть фрукты, на которых остались следы твоих укусов, сядь рядом со мной - займи место своей матери. Вожделение Саломеи к Иоканаану - это желание дарить ("suffer me to touch, to kiss";), это восходящее желание. Вожделение Ирода ("Dip into it thy little red lips, that I may drain the cup", "Bite but a little of this fruit, that I may eat what is left", "Salome, come and sit next to me. I will give thee the throne of thy mother";) - это нисходящее желание, это желание обладать.
Помимо Ирода есть еще и Иродиада - противопоставленная уже самой Саломее. Мать и соперница одновременно. Саломея безразлична ей, пока она, Иродиада, сидит рядом с Иродом. И пока Иоканаан не начинает о ней, Иродиаде, говорить. Они обе, обе желают Иоканаана. Но Иродиада желает его мертвым - видеть, а Саломея - раствориться в нем. Иродиада порочна, она раздражается любому проявлению отвлеченной, вне-бытийной Красоты. И потому голос Иоканаана отвратителен для нее, резок. Но именно близость к Луне, к Красоте и отличает Саломею от Иродиады. Ирод устал от Иродиады - она перечит ему, изменяет ему, он не может зачать ребенка ни с ней, ни с кем-то другим. Его род не продолжится. Он один перед вечностью, в которую никогда не попадет. И она страшит его. Она страшит его настолько, что он, чувствующий все знаки вокруг, ищет утешение в роскоши и излишестве.
Ирод смотрит на Саломею, он околдован ею. И он просит ее о танце. Судя по всему - не первый раз. Цикличность, рефрен - один из ключевых приемов всех "Саломеи". Сколько раз отметят стражи, что тетрарх выглядит мрачным? Сколько раз одна и та же тема, один и тот же образ будут использовать герои в своих репликах? Именно так Уайльд выстраивает ощущение цикличности происходящего, ощущения затягиваемой на шее петли. "Саломея" в этом плане очень похожа на "Болеро" Равеля. "Yes, dance for me, Salome, and whatsoever thou shalt ask of me I will give it thee, even unto the half of my kingdom," - просит Ирод бездумно. Эта сцена - очень страшная. "Ты клянешься, Тетрарх?" - "Не танцуй, дочь моя" - "Клянусь". "Саломея" - это плетение из диалогов. Все важное в пьесе - всегда диалог. Во время судьбоносного решения мир для двоих останавливается. Поэтому у судьбоносного решения всегда есть свидетели - не только в зале, не только вне пространства текста, с замиранием сердца следящие за героями, но и внутри. Иродиада говорит своей дочери не танцевать - но не из материнских чувств, не от предчувствия беды - из ревности, из властолюбия и страха эту самую власть потерять. Темп повествования замедляется, это затишье перед бурей, перед неизбежностью последствий непонимания.
"Ты поклялся, Тетрарх!"
...и Саломея танцует.
"I demand the head of Iokanaan" - говорит Саломея после. И Тетрарх поклялся - и ему приходится сдержать свое слово, пусть он и не хочет, и торгуется. Саломея непреклонна. Иродиада торжествует.
"Ah! thou wouldst not suffer me to kiss thy mouth, Iokanaan. Well! I will kiss it now, " - говорит Саломея мертвой, безголосой голове. Она безумна - но и сквозь безумие её постигает разочарование: она вожделела этот голос, этот взгляд - а получила лишь мертвую голову. Он не позволил прикоснуться к себе - потому что знал, что возвышенное стремление Саломеи рано пойдет на убыль? Едва ли. Саломея выпускает свою любовь наружу - но объект этой любви мертв, её безумие поглощает реальность, вырывая ее из мира полностью, бесповоротно, по-настоящему ужасно.