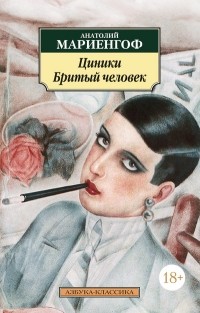Больше рецензий
11 октября 2021 г. 22:47
144
5 Циничная любовь циничной интеллигенции на фоне “странной революции” блестящим русским языком
Рецензия“- Делать-то вы что-нибудь умеете?
- Конечно, нет.
(…)
- В таком случае вас придется устроить на ответственную должность.”
Имя Анатолия Мариенгофа долгое время ассоциировалось у меня исключительно с Сергеем Есениным. И не только потому, что он автор знаменитого «Романа без вранья», где делится воспоминаниями о великом поэте, с которым был знаком, а еще и потому, что почти в любой биографической книге о Есенине непременно будет упомянут и Анатолий Мариенгоф. Хотя бы потому, что оба не только входили в «Орден имажинистов», но и являлись его основателями наряду с поэтом Вадимом Шершеневичем. Одним словом, о Мариенгофе без Есенина, о Мариенгофе — прозаике я, увы, не знала ничего до тех пор, пока не прочитала его небольшое произведение «Циники».
Что ж… Произведение, может, и небольшое, но по силе воздействия — почти бомба. Начать хотя бы с того, как оно написано: резко, рвано, отрывисто, почти хаотично, главки-зарисовки, фразы — пистолетные выстрелы, предложения — удары хлыста со свистом рассекающие воздух. И нет времени, чтобы остановиться и без спешки расписать всё подробно и плавно. Да и не нужно это. Помните? Мариенгоф — один из основателей имажинизма, литературного направления, которое ставило во главу угла образ. А уж с образами автор управляется играючи, и роман его взблескивает ими почти в каждой фразе. Попробуйте, почитайте Мариенгофа хотя бы ради свежести восприятия русского языка. Уж такие метафоры, такие сравнения: неожиданные, хлесткие, поэтические, злые, смешные, оригинальные, сложные, заковыристые. Не всякое стихотворение может похвастаться такой роскошной образностью. Что ни предложение -описание — хочется перечитывать, что ни фраза героев — циников — так и хочется рассмеяться сквозь слезы.
Так кто же они, циники Мариенгофа? Владимир и Ольга. Мы мало, что о них знаем. Автор, нисколько не церемонясь, распахивает перед нами дверь, и… вот они! Нас с ходу бросают в сцену, в диалог. Но мало-помалу картина вырисовывается. Владимир — интеллектуал, историк, эстет, обожающий протирать свои ценнейшие книги собственноручно, не прибегая к помощи прислуги. Ольга — красивая, можно предположить, роковая женщина, тонкие ручки в перчатках, шляпка с перышками чайки, французская косметика. А на дворе — 1918 год… Думаете, герои начнут страдать? Ничуть не бывало! Ну, по крайней мере не сразу и не от высоких помыслов. Ольга вот огорчена, что «странная какая-то революция», поскольку невозможно купить мороженое, а уж как жить без французской краски для губ? Газеты пестрят заголовками о боях, забастовках, голоде, а Владимир бегает по городу в поисках букета цветов для своей возлюбленной. Думаете, ну вот, роман об антисоветских элементах. И опять неверно. Или не совсем. Ведь Ольга рьяно стремится быть полезной, сотрудничать. На всё и вся она смотрит… ну, да, весьма цинично и практично. Что? Замуж зовете, Володя? Очень кстати! А то центрального отопления зимой не жди, а спать одной холодно.
Мариенгоф сатиричен, он смеется над всем и всеми в своем романе. Интеллигенция смешна. Ведь кто-то бежит из страны, но просит дочку выйти замуж за большевика, чтобы сохранить квартиру. Кто-то страдает от измен жены, но аристократическое воспитание не позволяет делать сцену, так ведь можно прослыть пошлым. А страдание-то рвется наружу! Вот как сейчас взять, да и «прыгнуть со скалы», чтоб любимая потом осознала, что натворила и какого человека загубила. Да куда там! Вот вроде и окно распахнуто, и до земли семь этажей, а там внизу что? Фу, гадость какая, рыбьи потроха во двор выброшены. Да как же это жизнь такого человека и так некрасиво оборвется. А революция и революционеры? Жирующие нэпманы в ресторанах, шикующие и покупающие женщин за доллары, выполняющие любой каприз взбалмошной кокетки, и газеты сообщающие о случаях каннибализма, смертей, убийств по всей России. Заседания, на которых решается вопрос, кому из деятелей поставить памятник. Тяжелые бои по всем фронтам. Так, заметки, немного хроники, скажем так, чтоб понятен был фон, а центр — все-таки любовь и герои-циники. А ведь страшно-то как становится от этих вскользь брошенных фраз, и понимаешь, не просто так они тут. И над героями своими, маленькими, ничем-то не выдающимися, Мариенгоф тоже насмехается, но как-то горько. И жаль их становится, этих подвижников коммунизма, продающих себя, чтобы помочь голодающим России и заедающих нравственное падение шоколадными конфетами.
И похожи они на беснующихся гостей чумного пира, когда кажется, что всё можно, всё дозволено, потому что это последний день, последняя ночь, последний праздник и последняя трагедия. А когда вдруг занимается рассвет и приходит понимание, что нет, это был не последний день и не последняя ночь. За хаосом, как это должно случится, приходит порядок. Да, жизнь изменилась, но и она входит в колею. Вот тогда-то наступает страшное опустошение. И некуда деваться, и нечего делать. Словно до этого своей-то жизни и не было, а был бесконечный цинизм в циничное время. И, казалось, то не своя жизнь вытекала, а так — игра в жизнь. И театральный трагический эпилог только в духе этой игры. На сей раз — в скуку. Да только красивым этот эпилог не получается. А горьким. Никакой пьяной вишней не подсластишь. И кажется, гром должен грянуть, и хляби должны разверзнуться, а на самом деле «на земле как будто ничего и не случилось»...