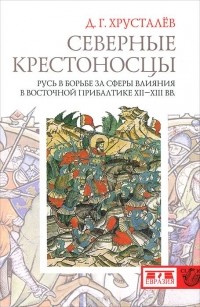Больше рецензий
8 сентября 2021 г. 10:16
282
5 НЕСУЩИЕ КРЕСТ
Рецензия«Епископ Бертольд сначала», как сообщает Генрих Латвийский, ... «отправился в Ливонию без войска попытать счастья». Мысль о том, что крещение может произойти без вооруженной поддержки автору, писавшему в конце 1220-х гг., уже казалась забавной. «Сначала они [ливы] ласково его приняли, но потом... наперебой старались: одни - сжечь его в церкви, другие - убить, третьи - утопить. Причиной его [Бертольда] прибытия они считали бедность». Т.е. алчность. Кстати, вторично прибыв уже с вооруженным отрядом, Бертольд погиб в бою, а немцы в отместку прошлись по округе, громя и сжигая все на своем пути. Столетия минули, а методы «христианизаторов» (так Хрусталев называет проводников насильственной католизации Прибалтики) от методов «демократизаторов» по прежнему не сильно отличаются. Вот как в немецкой хронике характеризуется начало крестового похода в 1205 году, описываемое как «прибытие епископа с несколькими пилигримами». При подходе епископа местные ливы «бросились бежать... с женами и малыми детьми. Этим они ясно показали, что мало думают о ранее принятом крещении». Благородные «пилигримы же, видя, что новообращенные ливы до такой степени заблуждаются... подложив огонь, зажгли их город».
На фоне жестокой, но эффективной экспансии немцев, сочетающей кнут и пряник, плаху и дары, беззубая политика полоцкого князя позволила Ордену меченосцев закрепиться на подконтрольных Руси землях, построить Ригу и создать узел проблем на многие столетия вперед. Как цитирует прибалтов Хрусталев, только советская оккупация смогла примирить их с немцами. Удивительно, с какой точностью князь Владимир Полоцкий, сдавший своих данников пришельцам, демонстрирует типичные национальные геополитические ошибки, такие как: благодушие, заключение фиктивного мира, шапкозакидательство, опора на ненадежных союзников, медлительность - он везде опаздывает на шаг в противостоянии с безжалостным противником.
Перед нами серьезный научный труд - монография - язык не поворачивается назвать это научно-популярной литературой – только в первом томе 1188 примечаний, порядка 60 иллюстраций, в основном карты и схемы. Но изложение материала очень доступное, есть место и иронии и сарказму, автор - умелый рассказчик. Время от времени он позволяет себе эмоциональные отступления от академического стиля, в основном при комментировании лаконичных текстов летописных источников. Так, например, цитируя рижский текст о том, как крестоносцы возвращались из набега на Эстонию «гоня с собой коней и массу скота, ведя женщин, детей и девушек, с большой добычей радостно.., благословляя Господа за это возмездие, посланное на язычников», Хрусталев пишет: «представьте себе счастливого латинского священника-
проповедника-миссионера, копьем подталкивающего изможденных женщин с малыми детьми,... голодных, умирающих, но упорно не желающих креститься... Прости Господи, их души!» Крестовый поход, однако. Вразумление неразумных.
Интересно наблюдать за работой механизма научных предположений и обоснований. Из скуднейших строк «Жития Александра Невского», посвященных героям Невской битвы (Гаврило Олексич, новгородцы Миша и Сбыслав, др.), вырастают целые научные теории, с которыми полемизирует автор. Хорошая фантазия - вот истинный базис исторической науки. Кстати, о Невской битве - как оказалось, совершенно неизвестно, Ярла Биргера ли ударил в лицо копьем Александр, так как имени шведского предводителя ни один из двух имеющихся русских первоисточников не упоминает, а западные источники битву вообще игнорируют. Биргер, основатель Стокгольма и важнейший политический деятель своей эпохи, в качестве противника князя был назван в русских источниках намного позднее. Первая книга заканчивается описанием
Ледового побоища, причем сложно назвать это событие центральным для автора - его гораздо больше интересуют другие, менее известные, страницы противостояния русских и немцев в Прибалтике. В то же время, в интерпретациях сражения у Чудского озера как нельзя лучше раскрывается идеологическая ангажированность и фактологическая бедность исторической науки. Даже подробный рассказ о попытках историков определить топографически место сражения нельзя воспринимать без юмора. Четкое указание летописи - на Узмени, у Вороньего камня- на практике позволяет ученым плутать между трех сосен буквально, изучая топонимы, изобаты, ледовую обстановку и местные легенды. Место битвы на сегодняшний день так однозначно и не определено. Что касается значения сражения и численного соотношения сторон: да, в битве погибли или были пленены 26 братьев-рыцарей - так ведь это четверть от их списочного состава в Ливонии! И за каждым рыцарем стоял целый отряд оруженосцев и слуг, не считая тысяч эстонских кнехтов. Однозначно русские имели численное превосходство, но следует помнить, что мощь тевтонского оружия на этот момент пользовалась непререкаемым авторитетом в регионе. С этой точки зрения Хрусталев подчеркивает, что значение победы у Чудского озера трудно переоценить для целей замирения северных границ русских земель.
«Поиде князь Димитрий в силе велице, и плени землю Немецкую, и взя град Юрьевъ, и възвратился к Новгороду съ многымъ полоном и с великою корыстью» («Житие Александра Невского») «Корыстные цели нападения не скрываются - стеснительность в этом вопросе стала встречаться значительно позднее» - ехидно пишет Хрусталев. Второй том посвящен политическим и военным маневрам русских князей в середине XIII века между Ордой, Литвой и Тевтонским орденом. Много внимания уделяется литовской междоусобице, а основной упор сделан на описание Раковорской битвы (1268г), как величайшего сражения между русскими и немецкими крестоносцами. По мнению автора, название «Северные крестоносцы», хотя он это и прямо отрицает, относится и к немцам и к русским. Ведь и те и другие несли в Прибалтику крест - только разный и по разному. И те и другие были, по сути, интервентами.
В приложении 2-го тома - старинные тексты некоторых летописей (о взятии Юрьева, Житие Александра Невского, Повесть о Довмонте, Повесть о Раковорской битве) и документов, в том числе билингва, пара дополнительных статей. Из проекта торгового договора Новгорода с Любеком и Готландом (1260- е): «А случится так, что придется давать показания двоим, немцу и новгородцу, и сойдутся они на одном и том же, то им верить; а поспорят они и не сойдутся на одном и том же, то бросить им жребий, и чей жребий вынется, тот прав в своем показании». Первым договор свидетельствовал Coning Jeretslawe coning Jeretslawen sone - князь Ярослав Ярославович.
Вывод: отличная книга, проливающая свет на интереснейшие события и исторические персонажи, извечно находящиеся в тени грандиозной фигуры Александра Невского и его двух великих сражений.