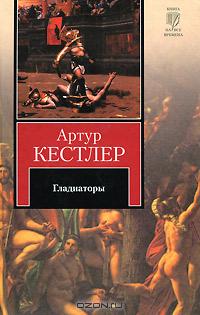Больше рецензий
4 октября 2020 г. 14:09
373
0 Предтеча в звериной шкуре
Рецензия«Гладиаторы» Артура Кёстлера – не просто исторический роман; автор не только не скрывает, он подчёркивает переклички с современной ему эпохой. В 1931 году Кёстлер вступил в коммунистическую партию и поехал в СССР, но уже к 1935 году испытал разочарование в «советской утопии». Причиной послужили первые партийные чистки, а после периода большого террора писатель и вовсе покинул партию. Это случилось за несколько месяцев до окончания работы над «Гладиаторами» – «рассказом о ещё одной революции, зашедшей не туда».
В центре повествования лежит восстание рабов под предводительством Спартака: ход восстания показан от начала и до финального разгрома. Словно лавина, бунт прокатывается по Апенинскому полуострову, и армия растёт невиданными темпами. Слово Спартака живо отзывается в сердцах рабов, и те бросают (или убивают) своих хозяев и присоединяются к армии: «Истинно, цепи ваши должны быть очень дороги вашим сердцам и оказывать целебное действие на тела. Ибо ничего иного не вижу я в этом поместье, что вы могли бы назвать своим и защищать, не щадя жизней». По сути, перед нами перифраз революционной формулы «Нам нечего терять, кроме своих цепей».
Однако в армию Спартака идут не только рабы. Как марксист, Кёстлер пытается вскрыть социально-экономическую подоплёку революции: «Сто лет внутренней жизни Рима: борьба между сельским средним классом и крупными землевладельцами». После завоевания обширных территорий в италийские земли хлынул поток дешёвой рабской силы. Она использовалась в основном в крупных земельных латифундиях, а рабочая сила свободных, но бедных людей стала цениться крайне низко. Но помимо рабов в центр империи стали везти и дешёвое зерно, и мелкие сельхозпроизводители перестали выдерживать конкуренцию с зерном, привозным или выращенным в огромных местных хозяйствах с низкой себестоимостью. Земли разорившихся фермеров скупали крупные землевладельцы, и процесс концентрации земельного капитала создал большую массу хоть и свободных, но совершенно обездоленных людей. Эта социальная группа тоже стала подпитывать революцию.
Причём восстание Спартака не было первой из них, ведь если есть социально-экономические предпосылки революции, она будет вспыхивать то тут, то там кровавым заревом. Но вот результат у каждой из них будет плачевным: «Мы живём в век мертворожденных революций», говорит персонаж книги. Возможно, одна из причин этого – отсутствие теории и стратегии революции, а также ясного представления о том, на каких принципах будет устроено послереволюционное будущее. Без теоретического обоснования революция превращается в слепой бунт, который сначала жадно напитывается кровью, но быстро выдыхается.
С восстанием Спартака в действительности получилось примерно так же, хотя оно и было одним из крупнейших в ту эпоху. Но Кёстлер в своём романе пытается наделить восставших неким подобием идеологии. Естественно, в то время и у тех людей она могла быть только религиозной. Так в армии Спартака появляется загадочный старец, прибывший в Рим откуда-то с Ближнего Востока и называющий себя эссеном. Очевидно, имеется в виду иудейская секта ессеев, которую Кёстлер выбрал из-за того, что их идеология довольна близка примитивному стихийному коммунизму. «Что моё – то твоё, а то, что твоё, – моё» – так выражает эссен суть своих представлений о собственности.
Он проповедует, что некогда люди жили в Золотом веке – времени, когда всё было общим. Этот век давно кончился, но путь назад не закрыт, поистине праведный путь – возвращение к культуре рода, «когда царила справедливость и доброта, по шатрам Израиля, по жизни в пустыне, на дружеской ноге с Яхве». Ведь и сам Яхве, в понимании эссена, был когда-то всего лишь богом пустыни, суровым и простым; ему не нужно производящее хозяйство, не нужны богатства, и политико-экономическая система Римской республики для него «ночь». Для людей, которых сделала обездоленными именно эта система, лучшей идеологии не найти: любой другой способ распределения благ, кроме «всё общее, всё делится поровну», не показался бы им справедливым.
Библейская идеология эссена хороша и тем, что содержит пророчества о грядущей духовно-экономической революции. Приход человека, что поднимает людей на восстание, здесь практически гарантирован: «Ибо явился Он, посланец Всевышнего с мечом, сетью и трезубцем, Он, кому Яхве, Владыка мира, повелел излечить безутешные сердца, пролить свет в глаза незрячих, сбить оковы с угнетённых». Точных предписаний, кем будет человек, где и когда он явится – нет, да они и не нужны, потому что, по признанию эссена, «пророчество – что одежда… Многие проходят мимо, многим она впору. Потом кто-то приходит и забирает её. Значит, для него и шили, раз он надел». При этом такая «одежда» должна соответствовать «моде» – своему времени и присущим ему вкусам. Таким образом, пророчество не столько предсказывает будущее, сколько программирует его: оно порождает людей, готовых взять на себя роль «посланца Всевышнего». И тем самым подтверждает себя задним числом.
Недостатка в таких людях никогда не было: «Многие уже узнавали Знак и слышали Слово». Но человек, внявший пророчествам и взваливший на себя это бремя, не обретёт сладкой жизни – его ждут беды и лишения. «Ему придётся бежать без остановки». Результат обычно бывает плачевным, но это не смущает всё новых и новых претендентов, ведь им кажется, что прежние вожаки были самозванцами, а вот теперь наступает время подлинного исполнения пророчества. «Это как гигантская эстафета, – говорит эссен, – начавшаяся в тот день, когда похотливый бог горожан и земледельцев убил бога стад и пустынь». И так вот под влиянием бродячего проповедника Спартак надевает на себя «одежды» библейского пророчества.
Это даёт ему не только обоснование своих действий и осознание важности миссии, но и теоретическую основу строительства нового общества. Такая попытка предпринимается: на юге полуострова восставшие основывают город Солнца. Название неслучайно – это намёк Кёстлера на то, чем оканчиваются все подобные утопии. Естественно, ничем хорошим: оказалось, что большинство людей воспринимает освобождение от рабства как возможность больше не работать, но при строительстве нового города работать пришлось больше, чем когда-либо ранее. Иначе было бы нечего есть и негде жить. Кроме того, сразу же проявилось неравенство, связанное как минимум с разделением труда: земледельцы должны кормить строителей, а все вместе – управляющую прослойку и сословие воинов. Получилось, что одни производят, а другие командуют, причём за распределение благ отвечают не производители, а командиры. Это означает, что присвоения носителями силы и власти части добавленной стоимости избежать оказалось невозможно. Система эксплуатации вернулась на своё место.
Но и это ещё не всё. Выяснилось, что периодически появляются недовольные таким порядком вещей, которые поднимают смуту и угрожают всему предприятию крахом. Как с ними поступить? И тогда власть в лице Спартака решается на сложный, но, как ей кажется, необходимый шаг: ради счастья большинства оно готово пожертвовать недовольным меньшинством – к нему применяются репрессии. Это обосновывается тем, что не все люди способны нести тяготы создания нового общества: «С нами люди двух сортов. У одних праведный гнев в сердцах, у других – только ненасытное брюхо. Задача – отделить зёрна от плевел». Эссен не опровергает вывод Спартака, он только понимающе кивает: «Когда на шестой день Он взялся лепить человека, Им владели раздражение и усталость, поэтому Он множество раз проклял человека. Худшее проклятие из всех состоит в том, что люди вынуждены следовать путём зла, ставя цели добра». Это, с одной стороны, санкция на террор, а с другой – признание в том, что Спартак оказался ничем не лучше предыдущих претендентов на исполнение пророчеств.
Но если так, то и закончит он, скорее всего, так же. Ведь люди всё видят: «Дисциплина и острастка! Для того ли мы сражались, для того ли сносили лишения, чтобы променять прежнее ярмо на новое? Куда подевалось недавнее воодушевление, чувство братства? Пропасть между вождями и простым людом разверзлась вновь». И властитель вынужден всё дальше идти по пути репрессий, заставляя критиков молчать. Вот убьём этих, потом этих, потом ещё тех, и всё, наступит народное счастье. Но идя по этому пути, ты всё больше превращаешься в тирана, сам не замечая этого. «Самый опасный тиран – тот, кто убеждён, что является бескорыстным стражем своего народа», – говорит ритор Зосим, один из самых ярких критиков Спартака. «Кто только ни начинал как друг народа и ни заканчивал тираном!». Или вот ещё: «Разве не видите, что вас предали? Из кровоточащего чрева революции выполз новый тиран».
Понятно, что для Артура Кёстлера история краха восстания Спартака была лишь поводом осмыслить неудачу мироустроительных планов русских коммунистов. Многие могут поспорить с тем, что в данном случае уместно говорить о неудаче, ведь Советский Союз просуществовал ещё долго, увидел немало славных страниц и пережил самого Кёстлера. Но для писателя, как и для многих других творческих людей его поколения, массовые репрессии были именно крахом: в большевистский эксперимент верили, на него надеялись, казалось, это попытка преодолеть недостатки капиталистического строя и построить новое общество, свободное от насилия и угнетения. С этой точки зрения коммунисты потерпели такую же неудачу, как рабы Спартака.
В чём же корень этой неудачи, что является тем роковых шагом, после которого благое начинание скатывается в бездну вечного повторения пройденного? Кёстлер считает, что это маккиавеллистский принцип «цель оправдывает средства». Писатель называет его законом обходных путей: «Тот, кто движется к цели, вынужден идти на компромиссы как с обстоятельствами, так и с совестью». Но такой компромисс влечёт роковые последствия: если ты в борьбе за светлое будущее считаешь возможным пролить чью-то кровь, то никакого светлого будущего у тебя не получится – оно будет запачкано кровью. Навсегда, до самого неизбежного конца.