Больше рецензий
31 августа 2020 г. 21:04
722
0 Памятка для человека "Как слезть с трона своей исключительности"
РецензияИнтеллектуальные экзерсисы эпохи Просвещения, которая то ли продолжается по сей день, то ли благополучно скончалась в жерле мировых войн, породили в частности такую вещь как механицизм, крепко заступоривший колёса телеги зоологии на несколько столетий. Восприятие мира как механистической модели, предсказуемой и подвластной физическим законам, с человеком во главе способствовало формированию представления о животных как о механизмах, застрявших в единственном «здесь и сейчас», лишённых мышления и соответственно чувств.
Вивисекция проистекает из того же механицизма: раз животное – механизм, то оно не испытывает чувств по определению. Если животное визжит и бьётся, когда в него втыкают нож, то делает это оно исключительно из-за следования заложенной программе «издавать громкие звуки при повреждении оболочки» (ну или как-то так), а не потому что оно чувствует боль. Тропинка этой логики так же легко выводила людей семнадцатого-восемнадцатого столетия на проторенную магистраль расизма – раз темнокожий человек напоминает европейскому интеллектуалу Нового времени приматов из музейных гравюр, то и животного в нём больше, чем человеческого, а значит он – механизм, и обращаться с ним должно как с механизмом, никто же не будет бояться задеть чувства кухонного комбайна.
Сегодня этот образ мира с человеком в короне и табличкой на груди «я тут главноя все планеты крутяцца в мою честь» кажется нелепым и несколько карикатурным, однако укрепившееся нежелание признавать в животных интеллект сверх базовых инстинктов и рефлексов правило бал вплоть до второй половины двадцатого века. Исследования Франса де Вааля – пример волны учёных, выступающих за право животных на признание наличия у них всяких разных интересных мыслишек в голове, помимо примитивного «жрать-спать-спариваться».
Подходы к изучению и воспитанию животных имеют короткий срок годности и за десяток лет способны превратиться в плесень. Например, кинологическая советская школа на мой взгляд строится на ошибочных стереотипах вроде теории доминирования и что «собака всё понимает: если её наругать за сожранный полдня назад венский стул, то она поймёт, за что её ругают». Происходит некое слияние противоречивых теорий в сознании человека, которые почему-то не доставляют ему дискомфорта – с одной стороны, отношение к собаке как к существу, ведомому инстинктами и стайными повадками, а с другой – наделение собаки абстрактным мышлением и бессовестное возложение на её лохматые плечи человеческой логики. На выходе имеем методы воспитания, которым давно пора почить в бозе, а работы Вааля и более частные исследования его коллег и единомышленников должны выступать путеводителем для людей, не понимающих, что там лопочет это лохматое орало зубатое. Возможно, данная книга де Вааля не будет блистать актуальностью ещё через двадцать лет, но по-прежнему будет светиться искренней любовью к животным, которая заражает и читателя. Это не покровительственное чувство, и не горизонтальное восприятие равным равного, но восхищение чем-то удивительно-непохожим, сложнопостижимым и загадочным.
Франс де Вааль пристрастен, порой он извлекает из экспериментов какие-то невероятные выводы, которые едва ли из него следуют в действительности (но можем ли мы утверждать наверняка? Едва ли – это течёт лейтмотивом сквозь всю книгу). Канцелярит и повторение одного и того же через каждую дюжину страниц – простительная помеха на пути к материалу, иллюстрирующему повадки животных с новой стороны. Даже если читатель не особо заинтересован в теме самоидентификации слонов в зеркале или умению шимпанзе прощаться друг с другом, он может подчерпнуть массу баек об экспериментах, определяющих интеллектуальные способности животных, которыми можно сражать наповал неискушенных людей. По крайней мере, я стабильно сражал перед отходом ко сну кого-то, кто живёт в тени шкафа, что бурые капуцины очень болезненно переживают несправедливость, когда его партнера человек награждал меньшим количеством фруктов, чем первого капуцина, или что касатки могут работать вместе с китобоями, загоняя кита к судну.
Основной вопрос, легший в название книге, получает ответ ещё во введении, после чего из главы в главу лишь подтверждается (или не совсем подтверждается, это зависит от вашего скептицизма). Возможно, пристрастность трактовки экспериментов не способствует восприятию идей, выдвигаемых в работе, как объективной данности. Однако, эта работа де Вааля позволяет лишний раз напомнить себе, что это мы – в мире, а не мир – для нас. Эта мысль обычно кристаллизируется в голове, когда проводишь очередную ночь в палатке посреди глуши, куда даже фантики от конфет не доползают, и объясняешь небосводу свою маленькость посреди оглушительной природной тишины, которая тебя не замечает. Но если вы третий год без отпуска, да и вообще не поклонник палаток, то книга де Вааля – ваша кроличья нора, чтобы проскользнуть на тропу любви к животным не потому что они «почти как люди», а просто потому что они существуют со всем своим многообразием индивидуальных миров.
ДП'20
Золотоперая дребезда

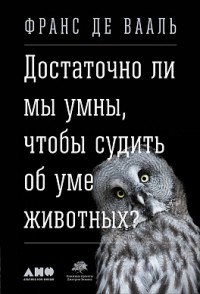
Комментарии
Восхитительно!
Соглашусь, очень ёмко и здорово описали суть книги!