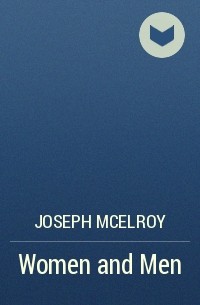Больше рецензий
14 июля 2020 г. 13:31
324
5 Women and Men: Long haul of Wide Load aka Multiplicity of small-scale units.
Рецензия«We already remember what’s been going on»
- Joseph McElroy «Women and Men»
Мастодонт Джозефа МакЭлроя, книга тысячи лиц и миллиона слов, книга о мужчинах и женщинах, книга о мириадах путей, книга о коренных американцах и чилийском военном режиме, книга об экологии и космосе, книга-жизнь увидела свет в 1987 году.
Этот роман ставили в один ряд с Gravity’s Rainbow Томаса Пинчона, The Recognitions Уильяма Гэддиса, Underworld Дона ДеЛилло, основываясь на его изощренной исполинской сложности, его эпохальном размере (W&M насчитывает в себе 850000 тысяч слов и является самым длинным романом написанным в Северной Америке и 14м в списке самых длинных книг в истории человечества). Но если Пинчона и Делилла читают и, что важно, дочитывают, то труд МакЭлроя постигла судьба, в еще более жестокой ее форме, великого романа друга Джозефа, Уильяма Гэддиса, The Recognitions: если роман и обсуждают, то делают это с большим пиететом и уважением, однако, хотя бы до середины книги доходят лишь немногие. Обзоры книги нельзя назвать даже удовлетворительными: подавляющее большинство рецензентов спотыкались уже на второй главе романа, и, предпочитая продолжению сложного пути вверх по почти отвесным склонам этой Магической Горы безопасный спуск на равнины в удобном кресельном подъемнике, ограничивались парой чопорных выражений, которые применимы к этому роману ровно как бензопила к собирательству брусники. Дэвид Фостер Уоллес, автор культового и, по мнению многих, одного из самых сложных романов «Бесконечная Шутка», говорил, что W&M «sucked canal-water», думаю, перевод здесь не требуется. Сам Джо (именно так просит называть себя автор) говорил, что «в основном, меня никогда не беспокоили обзоры, они почти всегда уравновешивали друг друга, но в этом случае мне было обидно, мне казалось, что я заслуживаю большего». И именно с Гэддисом МакЭлрой делил эти горькие моменты разочарования в обществе, где они надеялись найти своих читателей:
«Мы с Гэддисом обсуждали эту ситуацию. Он думал, что в этом и был смысл. А я думал, что нет. И мы смеялись над этим. Я сказал, что в каком-то смысле мы оба правы в отношении провалов… Если уж ты полетел вниз, так лети до конца. Падай на дно, падай ниже.»
И несмотря на внешнюю схожесть путей этих 2х великих романов сопоставимыми можно считать лишь градусы, на которые отклонялась их дорога от прямого ( а главного, заслуженного) пути к успеху: тернистость путешествия The Recognitions объясняется помимо очевидной академической сложности еще и инновационностью этого романа как первого шага от уже ослабевшего королевства модернизма к новому параноидально зардевшемуся, талмудному, одетому в майку «I <3 NY» миру пост-модернизма. Гэддис своим (лишь на первый взгляд) поражением нарисовал карту, вознес путеводную звезду для будущих конкистадоров вновь родившегося мира, Кувера, Уоллмана, Пинчона, Уоллеса и того же МакЭлроя.
Но Джо, с присущим этому поразительному человеку, уважением осмотрел эту карту со всех сторон и понял, что его путь пролегает в другой плоскости с эти возведенным, выстраданным миром. И это было заведомо принятым поражением… или победой, кому как угодно. В этом романе за первично встречающей вас сложностью предложений, состоящих из сотен слов, разделенных не известными вам правилами синтаксиса, а мазками голосов бескрылых ангелов-дыхателей, за небесной простыней тысяч событий, на которой персонажи разбросаны как ничего незначащие друг для друга звезды, скрывается сага, сага о семье, сага о Земле, сага о будущем. Всеобъемлющая сага. И как все глобальное и всеобъемлющее, мир этого романа невозможно рассмотреть нежась поздно вечером в кресле, параллельно со страницами книги пролистывая события прошедшего и предстоящего дня, ибо лишь через труд и страдание откроется вашим глазам то, что лишь немногим удается случайно заметить краем глаза в самые интимные моменты вашей жизни, момент рождения и смерти, вам откроется Все.
О чем же этот роман? Наиболее часто встречаемый абстракт: мужчина и женщина живут в одном доме и так никогда и не встречаются. Всего в романе 3 типа глав: первый тип «малыши» посвящены жизни второстепенных персонажей, чья роль в основной линии романа минимальна; второй тип, «Стандартные» главы, отвечающие за неспешное движение по основной линии сюжета; и наконец третий тип, «ДЫХАТЕЛИ», написанные ангелами, живущими рядом с людьми, в которых происходила основная эволюция сюжета. Сложность восприятия каждого типа глав определяется количеством заглавных букв в названии: структура «малышей» классически линейна, в то время как «ДЫХАТЕЛИ» способны вместе с вашими глазами и планами на вечер сломать ваши нервы.
Гораздо легче описать сюжет этого романа лапидарными информационными выстрелами, нежели чем полноценным текстом: здесь принцесса встречает принца, здесь индейцы борются за свою свободу, здесь натуралисты охотятся за новыми видами, здесь бок о бок живут пророки прошлого и настоящего, здесь двоих людей превращают в одного, здесь совершаются революции и убийства, здесь любят и умирают, зачастую не до конца. И можно описать его всего двумя словами: эпичная сага. Начавшись в 1834 году история не заканчивается в будущем. Оперные певицы и диктаторы, шпионы и журналисты, маги и люди науки, реальность и вымысел, внуки и прародители, убийцы и любовники- все они здесь и они едины, это одна из немногих вещей, которую я могу заявить об этом романе с уверенностью: сеть связи сложнее паутинных хором Ананси, но она есть. Где-то она вербальная, а где-то бессознательно коллоидная.
Стиль МакЭлроя, и здесь мы говорим не только о W&M, но и о Plus, Lookout Cartridge, Cannonball, вряд ли сравним с каким-либо писателем послевоенной Америки, да и мира в принципе. Палитра языка Джо насчитывает огромное количество цветов, которые в начале своего литературного пути МакЭлрой смешивал, создавая кислотную фуксию или кроваво-коричневый цвет свежей могилы, или пастельно голубой цвет зари над встревоженным утренним плачем детей ветра водным резервуаром. Да, на его холсте есть цвета, которые могут вызывать острозаточенные выпады ваших нейронов-защитников, но за коркой уже подсохшего масла нет агрессии, злости. Внутри разрушающего все RGB принципы витража творений автора W&M скрывается любовь. Сначала она еле заметна, но затем она растет как слабый простейший организм на питательном бульоне, и уже в W&M она предстает перед нами во всей красоте, полная грации, достоинства, честолюбия. Но как и любое великое сокровище, руку этой принцессы надо заслужить. А для этого надо суметь разрубить этот Гордиев узел, вязать который начал сам автор, сплетая миллионы нитей-слов в рой ткани, а после сверху затянулись канаты непонимания, словоблудия «слабых» рыцарей-читателей, для которых этот путь был непреодолимым с самого момента их рождения. Кто-то видит в его повторениях ноты Янг и Штайн, кто-то в его хитросплетениях видит Джэймса, в его буквенной алхимии видит Джойса. И все эти люди в чем-то правы, ведь глобальность определяется вовлечением каждого края земли и капли воды. Сам Джо сравнивал предложения в W&M с «Авессалом, Авессалом!» Фолкнера:
«Ткань текста в данном случае удерживает скорее любовь к американскому языку, чем любовь к языку вообще. Слова должны обладать смысловым весом. Комедийная и игровая ткани некоторых частей «Дыхателей» насквозь пропитаны тоской, вызванной тем, что в нашем культурном сознании столько неточностей, напыщенности, мусора. Кстати сказать, язык в «Дыхателях», хоть он и гораздо язвительнее фолкнеровского, и постоянно переключается, выполняет по меньшей мере одну задачу, сходную с той, которую пытался решить Фолкнер в своих длинных абзацах. А именно, воскресить прошлое. «Авессалом, Авессалом!» — величайшая книга Фолкнера. Однако отнюдь не самая простая. В ней можно наткнуться на почти невыносимый синтаксис, который совершенно невозможно разобрать. Но именно это и есть свобода — это не иллюзия джойсовского текста или бледное подобие потока сознания — это готовность, желание сделать так, чтобы предложение вело туда, куда нужно — и эта свобода, которая становится причиной того, что в «Женщинах и мужчинах» появляются предложения, которые рискуют показаться чересчур длинными, сродни той свободе, которую мы иногда встречаем у Фолкнера, свободе, которая призвана не только воскресить прошлое, но и, что куда важнее, сделать трудный шаг навстречу этому воскрешению.»
Если предложения великого Фолкнера на страницах последнего и самого великого романа погибшего Юга на протяжении 300 страниц зубодробительной очереди слов-портретов, слов-символов увеличивают частоту своих дыхательных движений до космических скоростей, погибая в агонии, то язык МакЭлроя скорее соответствует удивленным и ускоренным ЧСС и ЧДД только пришедшего в этот мир младенца. Le Roi est mort, vive le Roi! Но вне зависимости от типа главы у Джо получается почти повсеместно в романе создать то, что многие авторы стремятся сделать хотя бы одном предложении- он расстилает бесконечность мира, который меньше электрона, мира-души. И делает без использования кирпичей, брусьев, уровней, расчетов. В столько глубоком, бесконечно эфемерно титаническом мире нельзя строить ибо нет здесь понятия прочности. Здесь все просто происходит. А Джо просто указывает нам куда надо посмотреть, чтоб увидеть хотя бы хвост этой летящей кометы.
Этот роман начинается с рождения, но не заканчивается смертью. На своем пути он оставляет тлеющие тельца пылкого розовощекого энтузиазма случайного читателя, приболотные деревни непонимания и блаженную слепоту откровения. Но сам роман, история семьи Мэйн, история принца Наваджо не заканчивается. Она всегда рядом, в одной из точек Лагранжа (присмотритесь к L4 и L5). Эта книга нуждается в своем читателе, она может вам многое показать, а может и не показать ничего. В конце концов, ваша задача просто слушать и внимать ей, потому что именно обходя, входя в контакт с препятствием на своем пути вы участвуете в его формировании, в определении его, хоть и относительных, границ.