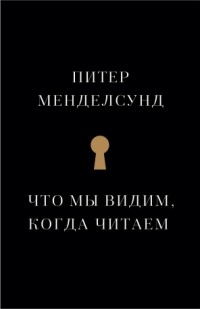Больше рецензий
3 октября 2019 г. 11:44
2K
5 Это рассказ о той странной слепоте, благодаря которой литература дарит нам настолько яркие образы. Крис Уэр.
РецензияВзяв в руки книгу на 451 страницу я ожидала, что чтение растянется на 3-4 дня, но мне понадобилось всего лишь 4-5 часов на "прочтение". Большое количество иллюстраций позволило справиться с книгой как с графическим романом.
Мне было интересно узнать мнение на восприятие литературы с точки зрения пианиста, который самостоятельно обучившись дизайну стал художником, иллюстратором, работающим с крупнейшими издательствами. Для подтверждения своих взглядов он приводит примеры используя работы В. Вульф, Л. Толстого, Шекспира, Фолкнера, Г. Джеймса, Г. Мелвилла, Г. Флобера, Дж. Барнса, И. Кальвино, Ч. Диккенса, Д. Джойса, Д. Стейнбека, сестер Бронте, В. Набокова, М. Твена, Х.Л. Борхеса, Д. Апдайка, Ж. Жионо, О. Сакса, Л. Витгенштейна, Кафки, Г. Яноуха, У. Теккерия, М.-Ф. Игена, Э. Гомбриха, Пруста, У. Гэсса, Дж. Толкина, Д.Ф. Уоллеса, У.Х. Одена, Г.Ф. Лавкрафта, М. Маймонда, Д. Локка, Гомера, Тиресия, Бетховена, Баха, Платона, д. Мильтона, У. Вордсворта, Р. Барта, Роб-Грийе, Ж. Пуле, К. Грэма, Э. Уортон, А. Поупа, А. Копленда, Д. Джейнса, К. Воннегута, Л. Стерна, Беккета, Д. Чосера, Блейка, Томаса де Квинси, Достоевского, Ж. Плаже, Э. Ростана, К.С. Льюиса, Гете. (фух! многие произведения мне захотелось прочесть или перечесть именно в свете описанного в этой книге, осознано заметить КАК я воспринимаю написанное автором).
П. Менделсунд задает много вопросов о нашем восприятии читаемого текста. Что же мы видим, когда читаем (кроме слов)? Что рисуем в своем воображении? От чего зависит наше восприятие? Как меняется наше восприятие произведения, если оно экранизировано?
История чтения запоминается. Книга захватывает нас. И чем сильнее захватывает, тем менее мы способны в момент чтения проанализировать переживание, которым поглощены. Значит, говоря о том, какие чувства испытали во время чтения, на самом деле мы описываем воспоминания о том, как читали.
И эти воспоминания — ложные.
Он предполагает, что во время чтения мы больше "слышим" (нашим ментальным ухом), чем видим. Что мы начинаем фантазировать с ходу, немедленно, едва открыв книгу, хотя может стоило научиться ждать, пока автор закончит описывать персонажи и обстановку? Автор не описывает персонажей, а очерчивает. Штрихи к портрету героя помогут нам обрисовать его контур, но представить полноценный образ человека едва ли.
Итак, осмысление текста формируется по ходу рассказа, однако я заметил следующее: это не означает, что по мере продвижения к финалу моя фантазия работает интенсивнее. Последние страницы книги не самые “зрелищные”, скорее они больше наполнены смыслом.
Зачастую какие-то детали облика героев или что-то малозначительное в действиях, в природе, обстановке становятся зацепкой, например к чувствам, или причинам тех или иных поступков. В этом месте я вспомнила (уже учась в универе) разговор о "тайном послании", которое несли небо и море в сказке Пушкина "О рыбаке и рыбке". Там небо затягивалось тучами, а море становилось все более грозным по мере роста запросов у старухи. Менделсунд приводит пример из "Джейн Эйр", когда только на 43 странице приводит описание тетки Джейн. Т.е. имеет особое значение момент КОГДА появляется более детальное описание определенного персонажа. Ш. Бронте этим описанием фактически говорит, что до этого момента Джейн толком и не поднимала глаза на тетку, воспринимала ее фрагментами. Или например фиксация на какой-то привычной детали, позволяет более ярко увидеть образ. Вы при прочтении обращали на это внимание? Я точно нет!.
Еще отрывок из Диккенса: Вскоре желанный свет озаряет стены — это Крук… медленно поднимается по лестнице вместе со своей зеленоглазой кошкой, которая идет за ним следом.
И снова Набоков: У всех кошек зеленые глаза — но обратите внимание, какой зеленью наливаются эти глаза от свечи… Набоков, видимо, имеет в виду, что чем образ точнее и чем лучше вписан в контекст, тем более узнаваемым он будет.
Точность и контекст добавляют образу смысла и, пожалуй, выразительности, но не делают мой образ ярче — иными словами, внимательность автора, его наблюдательность и способность выразить действительность словами не помогают мне увидеть. Понять — да, но не увидеть.
Также он задает вопрос, зависит ли способность к воображению от воображения конкретного читателя (у одного лучше у другого хуже)? или может у представителей разных культур способность к воображению отличается? Утрачиваем ли мы силу воображения по мере того, как наша цивилизация становится старше? Может быть, в эпоху, когда не было еще фотографии и кинематографа, человеческая фантазия работала лучше, четче?
Еще мне показалась очень интересной мысль, что мы заселяем книги своими знакомыми, а героев ссылаем, репатриируем в известные нам места. Так или иначе мы вспоминает уже известное нам.
Я читал книгу о Сталинградской битве и воображал, что бомбардировки, оккупация, окружение,
освобождение — все происходило на Манхэттене. Или, лучше сказать, на некоем альтернативном Манхэттене, зазеркальном Манхэттене, чья история противоречит известным фактам, чей архитектурный облик подкорректирован по приказу советских властей.Однако здесь все происходит иначе, чем с неким вымышленным местом и его прообразом: я, как ни странно, чувствую, что узнать больше о настоящем Сталинграде — мой моральный долг. Мой адаптированный Сталинград — ложное представление. И хотя персонализация места действия помогает мне отождествить себя с жертвами этой величайшей драмы — реальными жертвами реальной трагедии, — мне почему-то кажется, что, подменяя образы, я проявляю неуважение к ее участникам, что это нехорошо.
А далее, он пишет о том, что авторы научной фантастики или хорроров предлагают нам вообразить невообразимое. И ведь получается же! Также иногда для описания объектов рассказывают обо всем, чем он не является, а наше воображение наделяет его целостностью. При чтении мы переносим душевные качества на внешность.
Пока не прочитала не обращала внимание насколько мое восприятие текста зависит и от того от какого лица ведется повествование.
...Когда рассказ, например, идет от первого лица — и в особенности если автор использует настоящее время, — то мы, читатели, разумеется, видим происходящее глазами рассказчика. То же самое происходит, когда в повествовании употреблено второе лицо (автор напрямую обращается к читателю — “ты”) и даже первое или второе лицо множественного числа (“мы” или “вы”).
Если повествование идет от третьего лица или даже от первого лица в прошедшем времени (будто бы
знакомый рассказывает нам какую-то историю), тогда мы, конечно, над происходящим или в стороне. Мы находимся (и само повествование ведется) в “режиме Бога”*. Можно сказать, что в этом случае мы очень быстро перемещаемся от одной “камеры” к другой, берем крупно, чтобы схватить эмоцию, отступаем, чтобы увидеть общий план, массовые сцены, силуэты на фоне неба...
П. Мендесунд размышляет о возникающих аналогиях на примере восприятия иероглифов. Для человека, не знающего китайского иероглифы похожи на реальные предмет, который обозначен этим символом. Тогда как человек свободно читающий на китайском этим аналогий не видит (он пишет, что ему так говорили), потому, что для них читать на китайском привычно.
Часто мы не видим слова и фразы, а порой и целые абзацы, но мы "видим" направление. Например, что дальше все будет только хуже, т.е. мы воображаем не то что, прочли, а дальнейшие последствия.
Для подтверждения возможности воссоздания запахов при прочтении он привлекает нейробиолога. По словам которого, когда воображаем, мы "прикладываем усилие" и воссоздаем фрагмент ощущения, на "уровне интеллекта", хотя большинство людей считают, что способны вообразить запах в полной мере, на физиологическом уровне.
Мир для нас — неоконченное произведение. И чтобы понять его, мы кое-как склеиваем эти
осколки — постепенно синтезируем. Результат такого синтеза мы и способны воспринять. (Только его и способны.) И в то же время мы свято верим в целостность — иллюзию видения
Наш мозг и содержание книг воспринимает как неочищенные, зашифрованные сигналы мира.
То есть книга для читателя — это отраженный шум. Мы в силу своих возможностей постигаем авторский мир и смешиваем полученный материал со своим собственным в перегонном кубе нашего сознания, подобно алхимикам, комбинируем и превращаем в нечто уникальное. Именно поэтому, предположу, чтение и “актуально”: оно отражает процесс нашего приобщения к реальному миру.
Путешествие по книгам в таком ключе было очень увлекательным. Думаю, что теперь я иначе буду воспринимать читаемое.