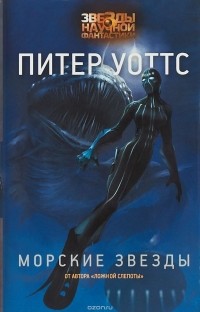Больше рецензий
29 мая 2019 г. 03:45
901
5
Рецензия«Цивилизация покоится на плечах изгоев» — из аннотации.
Цивилизация Уоттса мало интересует, все его внимание сосредоточено на психологии изгоев. Он наблюдает за ними долго, терпеливо, как ученый в батискафе за жизнью на морском дне, и, еще более пристально, – в лаборатории за выловленными со дна образцами жизни. Мрачное медитативное повествование, день за днем, признак за признаком – отражает, как мне кажется, ритм жизни ученого-биолога, работающего «в поле» (в данном случае поле – это океан); на досуге он немного психиатр.
Проза выглядит жестко реалистичной. В рецензиях встречала слово «вивисекция» – пожалуй, это оно. Уоттс препарирует искореженную (разными способами) психику и ее изменения в ответ на изменения среды (давление тонн воды, наличие дополнительных смертельных угроз, постоянный мрак, изредка рассеиваемый искусственным светом) и тела (возможность как «вскрыть» свое тело, так и скрыть его). В некотором роде это исследование максимы «бытие определяет сознание», только в случае с Уоттсом оно должно бы звучать: как «бытие изменяет сознание», если подкорректировать данные среды и тела, как вместилища сознания?
Для него даже социум здесь вторичен, хотя, казалось бы, сюжетно малые группы людей, замкнутые надолго в одном пространстве, диктуют социальную проблематику. Уоттс красиво решает эту проблему через нейроингибиторы, но все же проза остается очень индивидуалистичной. Группа интересным образом создается и распадается (цикл снаружи/внутри) – в зависимости от биологии (!) восприятия, т.е. для Уоттса создание социальной группы – это всё равно прежде всего вопрос работы сознания индивидуума. Социум вторичен, вторичен и еще раз вторичен, а иногда даже третичен. До социума три километра воды вверх и еще триста километров открытого океана до континента вплавь. То есть какой нахрен социум, кто его вообще видел?
Когда ты приблизительно на двух третях текста решаешь, что узнал достаточно о жизни рифтеров на дне (и, соответственно, дальше можно не читать), автор решает так же и начинает делать крутые повороты. Во время чтения некоторая затянутость условно второй трети текста несколько напрягла, но при повторном прочтении, думаю, это не будет помехой. Книга из тех, что стоит второго прочтения. Вообще по ее окончанию такое чувство, как по окончанию университета: когда тебе вручают диплом, ты чувствуешь, что вот теперь-то, вроде, ты готов поступить на первый курс, и теперь-то ты, вероятно, сможешь воспринять ту информацию, что пытались до тебя донести. После «Морских звезд» похожее чувство: хочешь понять – начни сначала.
«Ложная слепота» — моя первая романных масштабов вылазка в глубокий космос, область, в которой мое образование, как бы это выразиться, несколько ограничено. В этом смысле нынешняя книга недалеко ушла от предыдущих; но хотя об экологии морских глубин я тоже знаю немного, большинство из вас знает о них еще меньше, и докторская степень по биологии моря послужила мне, по крайней мере, эрзацем эрудиции в трилогии о рифтерах.
(с) Питер Уоттс, послесловие к «Ложной слепоте»
«Эрзац эрудиции», хм. Это то, что ты делаешь, когда действительно кого-то… Либо это то, что ты чувствуешь, когда по окончанию университета подготовлен наконец к поступлению на первый курс. Или хотя бы к чтению «Морской звезды».
«Морская звезда» в оригинальном названии одна, и не спроста. Когда социум всплывает-таки в разговорах рифтеров, выглядит он, конечно, неприглядно.
«Он протягивает иглокожее вверх, на обозрение Кларк. Сверху то кажется красноватым камнем, инкрустированным известковыми спикулами. Актон переворачивает звезду. Ее нижняя часть корчится от сотен толстых извивающихся волокон, аккуратными рядами расположенных вдоль каждого луча. И все эти волокна имеют на вершине крохотную присоску.
— Морская звезда, — рассказывает Актон, — это пример абсолютной демократии.
Кларк пристально смотрит на него, спокойно давя в себе отвращение.
— Так они двигаются, — продолжает Актон. — Ходят на этих вот трубчатых ножках. Но самое странное, что у них совсем нет мозгов. Что, в общем, неудивительно для демократии.
— Поэтому трубчатые ножки никто не координирует, они все двигаются самостоятельно. Обычно никакой проблемы не возникает. К примеру, они всем скопом стремятся к пище. Но нередко треть этих ножек тянет все тело в каком-то совершенно другом направлении. Это существо — живое воплощение соревнования по перетягиванию каната. Иногда особо упорные не сдаются, и их буквально вырывает с корнем, когда остальные перемещают звезду туда, куда те не хотят идти. Но ведь право большинство, так?»
Мда. Прочесть такую метафору социума сразу после выборов в Украине несколько… болезненно. Тварь я дрожащая или ножка трубчатая
Хотя морская звезда – метафора не только социума, но и человека. «Хобби» Кларк, «помогающей» морским звездам, похоже на хобби-вивисекцию самого автора, «помогающего» героям справиться со своими психологическими (или психическими) проблемами.
Его герои сосредоточены сами на себе, а автор сосредоточен на них. То, что изгои играют важную роль в обеспечении привычного быта для основной массы населения, у Уоттса выглядит неким побочным эффектом. Интересно в этом смысле сравнение с книгой «Звездный прилив» Дэвид Брин (после которого подводная тематика меня так заинтересовала, что я вышла на Уоттса).
У Брина на дне тоже есть парочка… героев не в кондиции.
Один, правда, поначалу был сильным и смелым, но потом его немного недоубило, и теперь остатки тела и, возможно, сознания (в чем ни у кого нет уверенности) просто плавают в резервуаре, пока остальная команда наблюдает за жизненными показателями и лелеет осторожную надежду… хоть на что-то.
Второй просто странный извращенец, который этого и не скрывает. И по ходу действия начинает вести себя все страннее. И, как вы уже догадались, оба этих героя именно в таком своем «остаточном» виде сыграют важную роль для выживания остальных особей.
Такое продвижение идеи инклюзии. Очень тонкое и сюжетно выверенное.
Но у Брина гуманистически-идеалистическая инклюзия. «Не ешь меня, я тебе пригожусь», как в сказках об этом говорится. И их не едят, и они пригождаются. Celebrate diversity.
А вот у Уоттса реалистический жестяк. «Если мы не можем съесть, то можем поюзать каким-то другим образом». С одной стороны, он вроде бы показывает необходимость и применимость человеческого diversity, но вот только это совершенно не похоже на celebrate. Недоубитые, недополоманные особи, которые вроде бы обречены гнить где-то на дне мира – в итоге гниют где-то на дне мира, но так, что от них зависит твое благополучие (без электроэнергии мир все же не рухнет, без нее жили веками, а некоторые части света живут до сих пор), и, возможно, в итоге твоя жизнь.
В русской литературе такие вопросы по касательной затрагивают на примере лагерей и репрессий (и то же строительство «Днепрогэса» и «электрификация всей страны», усеянная трупами заключенных – не та же ли самая добыча энергии на рифте Уоттса?). Но в руслит фокус внимания уходит на социальные аспекты: социальную несправедливость, закинувшую героев в такое место (а у Уоттса разве по сути не та же причина? – но он просто обозначает ее наличие) и вопросы социального выживания в группе, подчинения, установление иерархии и тому подобного (Уоттс вообще фактически отбрасывает эти вопросы в сторону, что интересно можно трактовать с точки зрения этологии, поясняющей, в каких сообществах иерархичность вот на таком уровне, как в книге Уоттса). Уоттс сосредотачивается на возможности адаптации для своих героев. То есть, с этой точки зрения для них «большой мир» – это лагерь, а «ссылка» – освобождение.
Поэтому читать авторскую байку про «слишком мрачно для русских» (которую он излагает вне книги; это просто инфа в нагрузку, вроде послесловия), конечно, смешно. Уоттс куда милосерднее, чем в русской прозе (и жизни) принято.
И наконец, в сюжете прекрасное художественное преломление будней ученых. Скажем, вот описание того, как перед отправкой на дно Джерри Фишера тестируют в лабораторных условиях:
«Однажды его посадили в бак, больше похожий на шприц высотой в пять этажей; крышка его опускалась вниз, как гигантская рука, сжимая все внутри. Они задраили люк и наполнили сосуд морской водой.
Джерри плавал в баке, морская вода скользила сквозь трубки в груди, и размышлял о странном неприятном чувстве, рождавшемся из-за того, что грудная клетка не двигалась, а дыхание отсутствовало.
— Есть легкая турбуленция, — голос Скэнлона раздавался со всех сторон, как будто говорили сами стены. — Из выпускного отверстия.
Тонкая цепочка пузырей сочилась из груди Фишера. От линз все вокруг казалось невероятно четким, прямо как в галлюцинации».
Такого рода сцены (где гидробиолог описывает человека на месте обычно изучаемых морских тварей – в типичных для такого рода тестов условиях), похоже, коренятся во внутрицеховых шуточках биологов, вроде тех комиксов: «Пока мы изучали мышей, они изучали нас. И их статья, в отличие от нашей, уже опубликована» (статья в престижном научном журнале может и пару-тройку лет ожидать публикации). И этот бак, конечно, узнаваем всеми, кто интересовался морской биологией с научной точки зрения. У меня перед глазами, например, ожило незадолго до этого просмотренное видео: