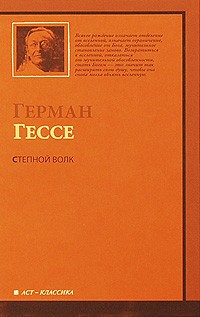Больше рецензий
30 июля 2014 г. 11:28
35
4
Рецензия"Предисловие издателя" к "Степному волку", написанное в духе разохотившегося на слова автора "Героя нашего времени", – это не рассказ постороннего человека о Гарри Галлере, а памфлет Гессе на мелкобуржуазный образ жизни, символом которого становятся араукарии и запах скипидара. ( Collapse )
Если автор комментариев (В. Седельник) прав насчет важности зеркал в романе, то именно предисловие – первое зеркало, отразившее взгляд, в него направленный; отражение, всмотревшееся в оригинал. Ключом к пониманию этой вводной части служит замечательный оксюморон "жизнь самоубийцы", который рассказчик ничтоже сумняшеся применяет к объекту описания. Человек сталкивается с бескомпромиссным, препарирующим суждением о нем самом со стороны того, кого он склонен приписать, следуя подзаголовку его автобиографических записок, к сумасшедшим, – и находит, что он и бледнее, и страшнее изнутри, чем тот, кого он привык видеть, по излюбленной мещанской присказке, со стороны. Отсюда заикания, почти как в "Писце Бартлби": "попытка преодолеть… попыткой", – и постоянная путаница в Ницше. Внимания достойна только одна из последних фраз с этих страниц: " Настоящим страданием, адом человеческая жизнь становится только там, где пересекаются две эпохи, две культуры и две религии" (насмешка над страной, стоящей одной ногой в Дойчесрейхе, а другой – в Веймаре), – в которой зацепиться можно только за дуализм, идущий из немецкой классической философии, – да и то лишь из того принципа, что должно было быть сказано что-то достойное внимания. Число кьеркегоровых "альтернатив" – почти бесконечность – и только зашоренность мышления или засоренность религией ведет к ограничению возможностей двумя. ("Жизнь каждого человека, – осторожничает Гессе в дальнейшем, – вершится не между двумя только полюсами, такими, как инстинкт и Дух или святой и развратник, она вершится между несметными тысячами полярных противоположностей".) Если с эпохами дело довольно ясное, поскольку человек привык воспринимать время как последовательность (отсылка к Марксу), то религии и культуры добавлены сюда не иначе как из иронии. Взглянул Гессе окрест себя, и душа его страданиями европейскими уязвлена стала. Восхитительные ощущения для того, кто готовится узнать (равно как и для того, кто готовится поведать) историю о "степном волке"!
А как полезны эти дешевые сборники с плохой бумагой, в начале которых всегда дан отпечаток фотографии писателя! Я смотрю на эти напряженные глаза, на сжатые губы, на мускулы на шее и понимаю: Гессе это я; не Гарри Галлер, не его издатель; я Гессе, в темноте хихикающий над ними, над каждым гарригаллером, ведь каждый – только часть его, и ни один не Гессе полностью, а я-то, я один все знаю, но блюду священный ритуал молчания. С усмешкой на устах. Это мной написано: "слезясь и расплываясь, глядели огни фонарей сквозь холодную морось и высасывали тусклые отражения из мокрой земли". Это для меня вспоминает Степной волк, как однажды ночью, лежа без сна, "вдруг заговорил стихами, стихами слишком странными и прекрасными, чтобы пришло в голову их записать, а утром я их уже не помнил…" "Но они затаились во мне, как тяжелый орех в старой, надтреснутой скорлупе". И я, только я способен понять насмешку автора, заставившего вымышленного издателя говорить от лица довольной ,мещанской, бездуховной эпохи "среди разоренной и высосанной (тема высасывания) акционерными обществами земли" (хайдеггерианский, может статься, термин), снабдив "Записки Гарри Галлера" анонсом, который. Нахватав по эпизоду из его малопонятной жизни, всего-навсего пересказал несколько первых страниц нижеизложенных мемуаров. И это я тот лукавый соблазнитель, который пишет фельетонный "Трактат…": "Так, драгоценной летучей пеной над морем страданья, возникают все те произведения искусства, где один страдающий человек на час поднялся над собственной судьбой до того высоко, что его счастье сияет, как звезда, и всем, кто видит это сиянье (чем не "Shining" Кинга?), кажется чем-то вечным, кажется их собственной мечтой о счастье". Это я смеюсь над "жизнью самоубийцы" в таких абзацах: "Его окружал теперь воздух одиноких, та тихая атмосфера, то ускользание среды, та неспособность к контактам, против которых бессильна и самая страстная воля".
Я всегда предпочитал скорее обочины, чем "провинции жизни", той мещанской среде, которая, ускользая, окружает Гарри Галлера; я не могу поставить знак тождества между им и мной, когда мне представляют его жалкий портрет, отрыгнутый эпохой, – не только потому. Что это мелкобуржуазно пошло и я смотрю на книгу, как на плохо написанный учебник, но и потому, что я не люблю кирхерских зеркал, в оптике которых точно рассчитано, что увидит зритель, и не допускается персонализация. И сладкий, но отравленный "волшебный напиток", бальзам исключительности, спрятанный в строках о мещанах и вышедших из их среды "степных волках": "Лишь самые сильные из них вырываются в космос из атмосферы мещанской земли, а все другие сдаются или идут на компромиссы, презирают мещанство и все же принадлежат к нему, укрепляют и прославляют его, потому что в конечном счете вынуждены его утверждать, чтобы как-то жить", – ничего мало-мальски полезного я в этом социальном дарвинизме не нахожу. Тот же результат получился бы, надо полагать, если бы за теоретизирование принялся Кафка, – никакой. Вместо того чтобы увеличительным стеклом, обращенным вовнутрь себя, выжигать гниль и заразу, "хаос собственной души", Гессе, обнаружив их в себе, отправляется в "третье царство, призрачный, но суверенный мир – юмор", прибегает к спасительной самоиронии, чтобы хоть что-то оставить в целости. Лукавство его и ему подобных авторов (болезнь не излечить, но указать) – это перенос вины с себя на поколение, рассуждения об общих величинах, обходящие частности стороной, довольствование "контуром внутренней биографии" и постоянное увиливание от "очной ставки с самим собой". "Ведь это, видимо, врожденная потребность каждого человека, срабатывающая совершенно непроизвольно, – представлять себя самого неким единством. Какие бы частые и какие бы тяжелые удары ни терпела эта иллюзия, она оживает снова и снова". Другими словами, смена точки сборки ведь требует каждый раз не только деконструкции, но и утомительной реконструкции – не лучше ли вообще ничего не менять?
Но так ли осторожен с собой Гессе, как мне показалось? Пока он разоблачал мещан, негодование его распространилось на всю западную философию: "мы заблуждаемся, применяя к нашим великим драматургам великолепные, но не органические для нас, а лишь навязанные нам понятия о прекрасном, понятия античности, которая, отправляясь всегда от зримого тела, собственно, и изобрела фикцию "я", фикцию лица. В поэзии Древней Индии этого понятия совершенно не существует, герои индийского эпоса – не лица, а скопища лиц, ряды олицетворений" (отсылка к Барту), – и дальше: "Забавна и разнообразна игра человечества: самообман, над разоблачением которого Индия (строкой выше: буддистская йога) билась тысячу лет (вместо двух с половиной!), – это тот же самообман, на укрепление и усиление которого положил столько же сил Запад". Здесь Гессе прав, но история – спираль, и философия двадцатого века, кажется, окончательно, огульно демифологизировала эту цельность. Дальше он деконструирует язык: "То, что люди в каждый данный момент вкладывают в понятие «человек», есть всегда лишь временная, обывательская договоренность". Говорит ли это Гессе потому, что ему есть что сказать, или емелей мелит, зная, что сработает кумулятивный эффект сказанного? Склоняюсь ко второму, потому что дальше начинается просто вольное переложение Ницше: "отчаянно держаться за свое "я", отчаянно цепляться за жизнь – это значит идти вернейшим путем к вечной смерти, тогда как умение умирать, сбрасывать оболочку, вечно поступаться своим "я" ради перемен ведет к бессмертию". Сразу после в дело, однако, вступают "внутренние бездны" и "одиночество Гефсиманского сада", значительно принижающие пафос заимствованной философии вроде этой: "В начале вещей ни невинности, ни простоты нет; все сотворенное, даже самое простое на вид, уже виновно, уже многообразно, оно брошено в грязный поток становления и никогда, никогда уже не сможет поплыть вспять". И неудивительно, что сразу после возникает в "Трактате…" слепок со сверхчеловека, близкий к перегибу: "кроме волка, за волком, в нем живет и многое другое, и не все то волк, что волком названо". Но как раз тут, где следовало бы развенчать этот опасный образ, от которого прямая дорога ко всем болям и ужасам века, герой Гессе, после успокоительных мыслей о самоубийстве, только соблазняется мелькнувшей эзотерикой и уходит в безмыслие: "Это возникло, блеснуло, погасло, и тяжелый, как гора, сон лег на мой лоб".
Дальше все и следует по этой синусоиде. Череда сомнений, отказов от своих решений, импульсов, аффектов прорежена интертекстами, значение которых то и дело, следуя взятому курсу, переосмысляется. Спор Гарри с профессором о Гете затрагивает тему несоответствия образа объекту, его же сон эту проблематику снимает, приравнивая Гете к симулякру, созданному художниками, молвой и им, Гарри, самим. Дальше эта тема обостряется в разговоре с девушкой, назвавшейся Герминой: упомянув пошлые портретики Христа, она заявляет, что "самому Спасителю мой внутренний образ его показался бы таким же в точности глупым и убогим" – хотя из ее логики следует, что никакого Иисуса, кроме образа его, не существует. Затем, едва убедив меня в том, что из всех персонажей она самая настоящая, Гессе разоблачает обман6 после довольно абсурдного разговора "сцена подернулась флером нереальности и призрачности". Значит, и никакой Гермины, кроме образа ее, не существует? Между тем – и это, конечно, одна из главных уловок автора, до этого момента подвергавшего ницшеанство упрощениям и перевираниям, – именно она, женщина, становится транслятором, "радиоприемником", "граммофоном", через который слышен Ницше: "Твоя жизнь не станет пошлой и глупой, даже если ты и знаешь, что твоя борьба успеха не принесет, – дает она отповедь на отстаиваемое Галлером "безнадежное донкихотство". – Гораздо пошлее… бороться за какое-то доброе дело, за какой то идеал и думать, что ты обязан достигнуть его. Разве идеалы существуют для того, чтобы их достигали? Разве мы, люди, живем для того, чтобы отменить смерть?" Наконец, и в собственном образе Гарри видит ложь: "Он походил на сановника, ограбленного разбойниками, который остался в драных штанах и поступил бы умней, если бы теперь вошел в роль оборванца, но вместо этого носит свои лохмотья с такой миной, словно на них все еще висят ордена, и плаксиво притязает на утраченную сановность". И, хотя здесь затронута важная проблема различия между реальным и видимым, еще никуда не исчез дискурс ролей, игры, лицедейства: речь о понимании не до конца, об упорном отказе принимать то, что уже пустило корни в устоявшейся системе взглядов человека, называющего себя степным волком. Маховик изменений, однако, запущен – после нескольких встреч с новой знакомой он признается: "О, какая получилась из моей жизни мрачная путаница!" Стержнем, к которому привязан Гарри, остаются музыка, книги, воспоминания. Думает он об Эрике в постели с Марией, с этим "цветком" нового мира: "И картины моей жизни во множестве вставали передо мной в эту прекрасную, нежную ночь, а ведь я так долго жил пусто и бедно и без картин". Все верно: аффект рождает образы. В конце концов, "картинная галерея жизни", следуя закону перехода количества в качество, сама становится произведением искусства (отсылка к Фуко): "Моя душа снова вздохнула, мои глаза опять стали видеть, и минутами меня бросало в жар от догадки (вот оно, чаемое!), что стоит лишь мне собрать разбросанные образы, стоит лишь поднять до образа всю свою гарри-галлеровскую волчью жизнь целиком, как я сам войду в сонм образов и стану бессмертным".
Походя интеллектуал Галлер занимается структурным анализом: "Эта сумка не была сумкой, этот кошелек не был кошельком, цветы не были цветами, веер не был веером, все было пластическим материалом любви, магии, очарованья, было гонцом, контрабандистом (здесь смерть метафоры раскрывается совсем по-грийевски), оружием, боевым кличем" (отсюда растет Делез). Герой уже не различает в этом гниль мелкой буржуазии, но еще способен применять аппарат мышления – опережая на десятки лет философию!
Наконец, воля и представление Гарри меняют новый мир, ласточкой и лакмусом которого служит Гермина, эта полугаллюцинация-полупроекция Галлера. Ее зараженность смертью, располагание ей, полагание на нее – это все он, это его мир просачивается сквозь ее дымку; а романтизация вечности, интеллектуализация страдания – мысли Гарри, не Гермины, хоть озвучивает, ретранслирует их она. Он же, догадываясь о ее проективной природе, предпочитает счесть Гермину ясновидящей, а не фантомом; не плодом собственного разума, а экстрасенсом, читающей его же мысли "так, что они обретают форму и предстают в новом виде". "Степной волк" не открывает, но заостряет тему диссоциативного расстройства личности мегаломана в литературе. До, во время и после сцены маскарада, этого демиургического буйства во всех личностях он подозревает одну: Гарри Галлера, говорящего чужими ртами, путешествующего в чужих телах "в неизбывной тоске по окончательной форме". И вот, открывает рот саксофонист Пабло: "преодоление времени, освобождение от действительности и как бы там еще ни именовали вы вашу тоску, означают не что иное, как желание избавиться от своей так называемой личности. Она – тюрьма, в которой вы сидите". И этот "фиктивный мир", и это "фиктивное самоубийство" – части мифологии, тщательно прописанные, кропотливо приготовленные ритуалы, одобренные толикой насмешничества: "всякий высокий юмор начинается с того, что перестаешь принимать всерьез собственную персону". Собственно говоря, в этот момент я сталкиваюсь с неизбежным парадоксом повествования от первого лица: либо герой остался в доброй памяти, действительно пережив описанные события, и описал их с обстоятельностью, присущей ему до того, как они произошли с ним, что означает только то, что они, его затронув, ничего в нем не изменили; либо, опять-таки пребывая в здравом уме, он их выдумал. Ни один вариант после рассказов Бирса не прибавляет желания продолжить чтение.
В магическом театре Геллер испытывает апофеоз солипсизма: "ни один укротитель, ни один министр, ни один генерал, ни один безумец не способен додуматься ни до каких мыслей и картин, которые не жили бы во мне самом, такие же гнусные, дикие и злые". После чего, конечно, следует обратный прием, редукция к детали: "Такой была вся моя жизнь, такой была моя малая толика любви и счастья, как этот застывший рот: немного алой краски на мертвом лице". Ради этой, уильям-уилсоновой сцены, процитированной в предыдущем абзаце, только и следовало прочесть книгу. Феерическая, фантазматическая концовка ничего не прибавляет к повествованию, следует из него логически. Как роман прочел бы Писарев – ни во что бы не поверил, ни с чем бы не согласился. Это и есть главное зеркало – оно меня отразило, надсмеявшись.