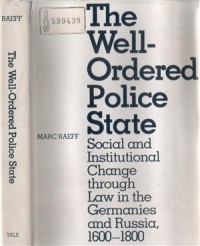Больше рецензий
12 января 2023 г. 08:54
427
4 État bien policé
РецензияТы прочь гони соблазны
Усвой закон негласный
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра!Ю. Энтин, 1983, "Дорогою добра"
Работа общего характера, на которую любят ссылаться в предисловиях специальных исследований. С тех пор как отменили классиков социальной теории (и не нашли им адекватной замены), исследователи явно испытывают некоторое замешательство, пытаясь заполнить этот традиционный раздел введения – база вроде бы нужна, но лучше бы размытая, неопределенная, чтобы вопросов вызывала меньше.
В этом плане книга Раева очень хорошо подходит – сборник из трех эссе, в которых автор аккуратно, но без опоры на первичные источники (ну, почти без нее), рассуждает об эволюции представлений о хорошо управляемом государстве и об эволюции самого аппарата государства в Западной Европе (и уже – в Германиях) и России в XVI-XIX веках. Такой источник так и хочется вставить во введение любого исследования о российских окраинах в описываемый период, что, собственно, авторы и делают.
Общие работы вызывают у меня смешанные чувства – их заранее известные ограничения подсказывают мне, что прорыва от них ждать не стоит, с другой стороны с необъяснимым постоянством я продолжаю что-то в них искать. В этом плане работа Раева хороша – нового в ней только взгляд (да и то, новый, так сказать ретроспективно, для 1980-х), но автор заранее описывает все ограничения, берет ответственность за сложности интерпретации и не забывает про то, что пишет именно эссе.
В итоге у нас рассказ о том, как коллапс социальных институтов католической церкви после Реформации привел к тому, что в Германиях (хороший термин для лоскутного одеяла Священной Римской империи) светские власти взяли на себя регулирование таких вопросов, которыми до этого никогда не занимались. Это на фоне экономических изменений (умеренного роста в сельском хозяйстве и переформатирования городской экономики вкупе с ростом промышленности) привело к взрывному росту законотворческой активности. Каждое более-менее серьезное княжество или королевство запустило печатный станок, выпуская десятки регламентов, который описывали правильное поведение людей/сообществ в различных ситуациях. Мне показался любопытным именно описанный автором переход от запрещающих предписаний в духе известной классификации Борхеса к исправляющей, направляющей даже манере.
Автор призывает видеть в этой машине полицейского государства не реально функционирующего Голема, а лишь отражение представления о том, как должно было выглядеть правильно организованное государство. Интересна тут именно культура повторения – регламенты и прочие нормативные документы время от времени издавались заново, о них напоминали и еще раз напоминали. Здесь есть любопытное пересечение со Скоттом – его песнь о нормальном дереве становится чуть менее грустной, ведь во многом регламенты пытались лишь направить в правильном, по их мнению, направлении, а не меняли мир как таковой.
Раев считает, что представление это сыграло диалектическую роль – метод превратился в цель, регламенты не стали жесткой рамкой, но задали правильную модель поведения, которая позволила произвести отрыв и начать самоподдерживающийся экономический рост. Эта часть эссе самая слабая – все это уже совсем слабообоснованные фантазии, особенно если взять во внимание, что Раев считает результатом создание западного образца государства всеобщего благоденствия второй половины XX века, а государства этого и след уже простыл (после распада СССР необходимость в поддержании его для Запада отпала). Но эти рассуждения в стиле wishful thinking не очень портят книгу, наоборот, видно как далеко откатились мы за сорок лет.
Самая интересная, на мой взгляд, часть – это эссе о переносе практики хорошо управляемого государства на российскую почву Петром I и Екатериной II. Любопытна она, будем честны, не рассказом о том, что какие-то практики плохо приживались из-за отсутствия в России полуавтономных организаций, которые, якобы, были агентами изменений на Западе. Эти благоглупости из 80-х привели к тому, что мы имеем за окном, вызывают скупую слезу сожаления и не более того. Нет, интересно тут то, что автор понимает дискретность восприятия – Петр не пытался внедрить в России европейские практики как таковые, он применял то, что увидел в конце XVII века в Европе в виде готового продукта, без эволюционных стадий и условностей. Это, с одной стороны, перекликается с преимуществами отсталости Гершенкрона , а с другой стороны могло бы кому-то еще в 80-х подсказать, что шоковая терапия и переход рынку мало что дадут, ведь сделано это было именно в петровской манере – без эволюционных стадий, в виде готового продукта. И с таким же катастрофическим результатом для населения.
Любопытно было и читать про то, что отставание от европейских практик ко времени Екатерины II выросло – при Петре в Европе представление о хорошо управляемом государстве только складывалось, он перенял продукт в момент его относительной готовности, но с разницей всего в несколько десятилетий, а ко времени Екатерины II та самая рамка в Европе стала приносить свои плоды, тогда как в России оставалась законодательной фикцией.
Во многом книга даже не о полицейском государстве как таковом, а о сложностях переноса практик через культурные барьеры. В России идея хорошего управления дала свои, непредсказуемые результаты, где процесс тоже стал целью, а хроническая нехватка персонала видоизменила некоторые европейские практики до неузнаваемости. И то, что было этапом в Европе, временной рамкой для созревания производительных сил, стало в некотором смысле основой петербургской империи, вплоть до ее краха в 1917-м. Таки пишет об этом в книге о Дунайских княжествах, тут трудно с ним не согласиться – российские чиновники, создавая что-то вроде конституций Валахии и Молдавии, насытили их такими подробностями, что кажутся странными для современных законов, но были понятны и очевидны для людей, создающих идеальный государственный механизм. Таким, каким он им казался в их логике Просвещения через дисциплину и раскрытие бесконечного мира производительности.