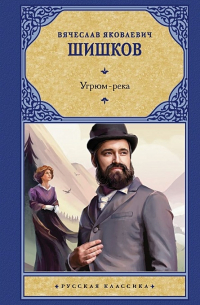Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
XXII
Небо в густых тучах. Ночь. Глухая, смятенная, темная. Эта ночь была и не была. Караульный крепко дрыхнул возле Анфисиных ворот.
Стукнуло-брякнуло колечко у крыльца, прокрался Шапошников в дом. И кто-то с черной харей прокрался следом за ним. «Знаю, это черт, —подумалось Шапошникову, – виденица...»
– Анфиса Петровна, здравствуй, – сказал он равнодушно. – Здравствуй и прощай: проститься пришел с тобой.
Гири спустились почти до полу, завел часы, кукушка выскочила из окошечка, трижды поклонилась человеку, трижды прокричала – три часа. Ночь.
И зажглась керосиновая лампа-»молния». Шапошников стал ставить самовар, долго искал керосин, наконец – принес из кладовки целую ведерную бутыль. Вот и отлично: сейчас нальет самовар керосином...
– Здравствуй, здравствуй, – говорил он, заикаясь. В бороде недавняя седина, лицо восковое, желтое, и весь он, как восковая кукла, пустой, отрешенный от земли и странный. Его глаза неспокойны, они видят лишь то, что приказывает видеть им помутившийся, в белой горячке мозг. Он кособоко вплыл в голубую комнату, малоумно вложил палец в рот, остановился. И показалось тут пораженному Шапошникову: Анфиса сидит за столом в лучшем своем наряде, она легка, прозрачна, как холодный воздух.
– Анфиса Петровна, – сцепив в замок кисти рук, начал выборматывать Шапошников. – Скажите мне, что вы искали в жизни и искали ль вы что-нибудь? Имеются в природе два плана человеческой подлости: внутренний и внешний. Так? Так. Но внутренний план есть внешний план. И наоборот. Так? Так.
«Так-так», – подсказывал и маятник.
– Я знаю злодея, который хотел умертвить твой внутренний план, Анфиса. Но внутренний план неистребим. И ежели не бьется твое сердце, значит, внутренний план убийцы твоего протух... А я качаюсь, я тоже протух весь, я пьян, я пьян. – Шапошников схватился за свои седеющие косички, зажмурился. – Дайте ланцет, давайте искать начало всех начал, – стал размахивать он крыльями-руками, – вот я восхожу на вершину абстракции, мне с горы видней. – И он хлопнулся задом на пол. – Товарищи, друзья! Нет такого ланцета, нет микроскопа... Человек, человек, сначала найди в своей голове вошь, у этой вши найди в вошиной голове опять вошь, а у той вши найди в ее башке еще вошь. И так ищи века. Стой, стой, заткни фонтан!.. Твой удел, человек, – рождаться и родить. А ты сумей пе-ре-ро-диться. Что есть ум? Твой ум как зеркало: поглядись в зеркало, и твоя правая рука будет левой. А ты не верь глазам своим... Анфиса Петровна! Зачем вы верили глазам своим, зачем?! – закричал Шапошников и встал на четвереньки. Возле него, припав на лапы, лежал набитый куделью волк, помахивал хвостом, зализывал Шапошникову лысину.
– Ну, ты! Не валяй дурака... Вон отсюда.
Волк взвился и улетел, самовар взвился и улетел. Шапошников хлопнул себя по лбу, осмотрелся. Кухня. Он не поверил глазам своим... Неужели – кухня? Кухня. Он на цыпочках снова прокрался в голубую комнату. Лампа горит под потолком, тихая Анфиса на большом столе лежит. Шапошников пал на холодную грудь ее, заплакал:
– Анфиса Петровна, милая! Ведь я проститься к вам пришел. А я больной, я слабый, я несчастный. Вот, к вам... – Он обливался слезами, бородища тряслась. – Анфиса Петровна! Вы странная какая-то, трагическая. Я помню, Анфиса Петровна, первую встречу нашу: вы прошли перед моей жизнью, как холодное облако, печальной росой меня покрыли. Только и всего, только и всего... Но от той росы я раздряб, как сморчок в лесу. Впрочем, вы не думайте, что я боюсь вас. Нет, нет, нет. Правда, вы похолодели и глаза ваши закрыла пиковая дама, смерть... Но это ничего, это не очень страшно... Страшно, что в моей голове крутятся горячие колеса, все куда-то скачет, скачет, скачет, куски горькой жизни моей кувыркаются друг через друга. Я погиб. Я потерял вас: я все потерял!.. – Шапошников отступил на шаг, одернул рубаху, улыбнулся. – А я, Анфиса Петровна, этой ночью убегу. Может быть, меня догонит пуля стражника, может, погибну в тайге, только не могу я больше здесь, возле тебя, не могу, не могу: я пьяный, я помешанный. Эх, Шапкин, Шапкин!
Он сплюнул, сдернул пенсне, впритык подошел к большому зеркалу, всмотрелся в него дикими глазами. Но в зеркале полнейшая пустота была, лик Шапошникова в нем не отражался. Был в зеркале гроб, стены, изразцовая печь с душником, а Шапошникова не было. Он стал сразу трезветь, зашевелились на затылке волосы, он вычиркнул спичку, покрутил перед зеркалом огнем. Ни огня, ни руки зеркало не отразило: зеркало упрямилось, зеркало отрицало человека. Шапошников весь затрясся, с жутким воем заорал:
– Где?! Почему, почч-чем-мму я отсутствую?! Врешь, я жив, я жив!! – и быстро погрузил голову в ведро с ледяной водой, отфыркнулся. – Чч-черт, виденица, галлю-галлю-цинация... Брошу, брошу пить. Надо скорее бежать, проститься и бежать... Четвертый час. – Но вода не могла образумить его, выхватить из цепи бредовых переживаний. Однако он на момент пришел в себя. Кухня, все та же кухня, тот же самовар, ведерная с керосином бутыль. Тихо. Пусто. В голубой комнате грустную панихиду пели. Всех надсадней выводил фистулой Илья.
«Негодяй, – сердито подумал Шапошников. – Бестия... Тт-тоже, воображает!»
Он прислушался к хоровому заунывному пению, к тому, как постукивают от ветра ставни; ему не хотелось входить в голубую комнату. Мимо двери, ведущей в кухню, неспешно пронесли парчовый гроб Анфисы, и еще, и еще раз пронесли. Шапошников облокотился на косяк и наблюдал. Все видимое – гроб, процессия – казалось ему отчетливым и резким, но очень отдаленным: будто он смотрел в перевернутый бинокль. Он призывно помахал крыльями-руками, чтоб приблизить все это к себе, но жизнь не шла к нему, страшная жизнь удалялась от него в пространство.
За стенами бушевал резкий ветер; ставни скрипели, пошевеливалась скатерть на столе, завывал в печной трубе жалобный вьюжный стон. Шапошников, пошатываясь, сжимал виски, делал напряженное усилие опамятоваться, глаза искали точки опоры... Но все плыло перед его взором, только твердо Анфисин гроб стоял и старенький отец Ипат благолепно кадил, покланиваясь гробу.
– Не вв-верю! Вздор, вв-виденица!
Хватаясь за воздух, он пьяно покачнулся и, чтоб не упасть, крепко уперся о кромку стола, на котором дремала Анфиса. С неимоверной жалостью он уставился в лицо ее. Лицо Анфисы было мудрым, строгим, уста что-то хотели сказать и не могли.
– Милостивая государыня Анфиса Петровна, – раскачнулся Шапошников всем легким телом, и с волосатых губ его снова сорвался безумный дребезг слов: – Дом сей пуст, хозяйка умерла, собаки спущены. Слышите, слышите, как воет ночь? – И театральным жестом он выбросил к печной трубе запачканную сажей руку. – Милостивая государыня Анфиса Петровна! Кто утверждает жизнь, тот отрицает смерть. Да здравствует жизнь, Анфиса Петровна, милая!..
Вдруг сзади него – топот, треск, звяк стекла; ведерная бутыль с керосином грохнулась возле трупа Анфисы, и лохматое чудище, с обмотанной тряпкою харей, швырнуло в керосин пук горящей бересты.
– Ай!!! Ты!! – вне себя ахнул обернувшийся Шапошников; глаза его обмерли, полезли на лоб.
Тут вспыхнул, растекся по комнате желтый огонь, тьма заклубилась смрадом и дымом. Безумец вмиг отрезвел, с воплем сорвал с морды чудища тряпку и шарахнулся к выходу. Но дверь крепко снаружи закрыта: ее припер колом проснувшийся на улице сторож. За стенами сумятица: караульный заполошно свистит, крутит трещотку, орет на весь мир:
– Поджигатели! Поджи-га-а-атели!!
И раз за разом слышатся резкие выстрелы.
К безумцу вернулось сознание, и слабые силы его сразу окрепли. Он бросился через ползущее пламя к окну, где убита Анфиса, – ставни там настежь, – но огненный вихрь бушевал там вовсю. Задыхаясь от дыма и страха, он кинулся в кухню, оттуда в чулан, оттуда по лестнице вверх, на чердак...
Еще один миг – и дом человеческий вспыхнул, как порох...
– Пожар! – косматой вьюгой всколыхнулось над селом.
Вдоль улиц сновали люди, стучались в ворота, в окна изб, кричали на бегу:
– Пожар, пожар!
Крестьяне в рубахах и портках выскакивали босиком на улицу и, дико поводя глазами, не узнавали своего села. Господи, что за наваждение: легли спать летом, пробудились ледяной зимой! Действительно, по вчерашним грязным улицам с позеленевшей на лужайке травкой дурила вовсю свирепая пурга, наметая сугробы снега. Опушенные молодой листвой деревья испуганно сгибались в палисадниках, кланялись снежной буре в пояс, умоляя о пощаде. Крылатая пурга несла над селом всполошный благовест набата, мокрый снег облепил все окна, выбелил все стены изб. Широкое желтое зарево где-то полыхало посреди села.
– Эй, Марфа! Где пимы? Куда полушубок дела?!
– Багры, багры!..
– Хрещеные, пожар!..
Кто на санях, кто на телегах или верхом на лошаденках торопились на пожарище. И уж слышались разорванные ветром голоса:
– Анф... исин... дом... горит...
Пристав давно на деле. Кой-как, общими силами, выкатывают пожарную машину – внутри машины сучка Пинка со щенятами, рассохшиеся бочки пусты, кишка перепрела, лопнула, лошади бьют передом и задом, страшатся зажженных фонарей и гвалта. Пристав пьян, кулак его в крови, грудь нараспашку, из-под усов то и дело площадная брань.
Прохора среди народа не видать: Прохор болен, он в бреду, один, покинутый: матери нет, десятский убежал, Варвара на пожаре, отец без ног, без языка, Ибрагима нет, Илья еще не возвратился.
Набат гудит. Шум на улице все крепнет. А за окном мутный мрак пурги трепещет желтым. Прохор встает, приникает к окну и непонятно говорит:
– Ну вот... Спасибо.
Дом Анфисы на отшибе. Сотни людей окружили его тугим кольцом. Охваченный потоком пламени, он горит с большой охотой, ярко. Метель с налету бьет в пожар, пламя сердито плюет в буруны крутящегося снега плевками огня и дыма, снежный вихрь крутым столбом взвивается над пожарищем и, весь опаленный жаром, уносится вверх, в пургу. Начавшие гнездоваться грачи, разбуженные непогодью и содомом, срываются с гнезд и с тревожным граем долго летают над селом.
На порозовевшей колокольне сменились звонари – старик поморозил этой майской ночью нос и уши, – набатный колокол загудел теперь по-молодому – Васятка Мохов радостно наяривал вовсю, улыбаясь с колокольни веселому пожару. Из церкви вышел крестный ход, хоругви трепало ветром, падал ниц и вновь вздымался жалкий огонек в запрестольном фонаре, отец Ипат с кадилом шествовал, кряхтя – шуба, риза, валенки, ватная скуфейка.
Вскоре дом сгорел дотла.
Пурга угомонилась, ветер стих, народ помаленьку разбредался.
Клюка повернулась к пожарищу, загрозилась скрюченным, как клюв коршуна, пальцем и каким-то вещим голосом прокаркала:
– Это Господь сполняет свои хитрости и мудрости.