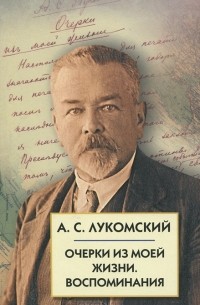Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Николаевское инженерное училище
После окончания лагерного сбора Павловского военного училища я поехал погостить на две недели в имение А.Н. Ронжиной, где предался моей охотничьей страсти. Тетеревов и белых куропаток было много, и я наслаждался. После окончания отпуска я явился в Николаевское инженерное училище.
Первое мое впечатление было то, что в Инженерном училище дисциплина была гораздо менее строгая, чем в Павловском; что отношения между офицерским составом и юнкерами были гораздо свободней и как-то более сердечны, а в классах отношение к преподавательскому составу более подходило к отношению между профессорами и студентами в гражданских высших учебных заведениях, чем между преподавателями и юнкерами в военных училищах.
Первое впечатление было просто непонятной для меня и странной распущенности. Первое впечатление, что в Николаевском инженерном училище будет много легче, скоро прошло, и я убедился, что в смысле воспитательном строгая определенность порядков Павловского военного училища была гораздо лучше для юнкеров, а что наружная свобода и панибратство с преподавателями и офицерами часто ведет к произволу и всяким инцидентам.
Однажды попался и я. Вернувшись как-то из отпуска, я был встречен дежурным офицером, капитаном Данилевским, словами: «Лукомский, вас сегодня встретил на Невском поручик Веселовский15 (был одним из дежурных офицеров, классных дам, как мы его называли; во время мировой войны дошел до должности командующего армией (3-й) и имел два Георгия), которому вы не отдали честь. Поручик Веселовский просит вас арестовать на семь дней. Завтра утром отправляйтесь в карцер».
На мой ответ, что я не видел поручика Веселовского на Невском проспекте и если не отдал ему честь, то только по этой причине, получил ответ: «Не рассуждайте, а то я прибавлю несколько дней от себя». Пришлось замолчать, и на другой день я был водворен в карцер. Времени для размышлений было много. «Вот тебе и Инженерное училище, вот тебе и свободное отношение», – думал я.
И действительно, при всей строгости в Павловском военном училище там вряд ли был бы возможен случай ареста юнкера за неотдание чести при условиях, в коих очутился я. Самая мысль о том, что юнкер осмелился бы умышленно не отдать своему офицеру честь, не пришла бы в голову офицеру училища, и в тех случаях, когда юнкер, зазевавшись, не отдавал честь, начальство в Павловском училище ограничивалось головомойкой и внушением быть внимательней.
По закону в карцере разрешалось читать только устав и учебники. Но конечно, приятели заключенных подсовывали под двери карцеров книжки и более веселого содержания. Получил и я какой-то французский роман. Досиживал я последний, седьмой день. Увлекшись романом, я не услышал, как открылась дверь и вошел офицер (капитан Модрах). «Лукомский, что вы читаете? Устав?» Я встал и молча протянул Модраху злополучный роман. Ответ его на этот жест гласил: «Посидите здесь еще семь дней и почитайте уставы, вам будет это полезно».
Что действительно было привлекательно в Инженерном училище – это большая свобода в смысле отпусков в город. Пользовался я ею вовсю, часто во вред науке.
В смысле учебной части я сразу почувствовал, что, попав прямо на третий курс училища, я ко многому не подготовлен. По ряду предметов то, что проходили в Павловском училище, было много ниже первых двух курсов Инженерного училища, а непрохождение мною курса аналитической геометрии ставило меня в очень трудное положение по целому ряду предметов.
В смысле математики я особенно чувствовал себя малоподготовленным для прохождения курсов долговременной фортификации, строительного искусства, дифференциалов. Пришлось спешно пополнять свои познания.
Справился, но было трудно.
Чувствовал я себя слабым и по химии. Но что совсем я не мог переварить – это изрядный курс богословия (зачем требовалось прохождение большого курса богословия в Инженерном училище, никому не было понятно). Впрочем, по последнему курсу мы все были в одинаковых условиях и все отвечали при помощи шпаргалок.
Добродушно к шпаргалкам относился и наш преподаватель математики профессор Будаев. Терпение этого человека и умение его вдалбливать в наши легкомысленные головы сложные математические построения были поразительны.
За время моего пребывания в Николаевском инженерном училище пришлось два раза соприкоснуться с «великими мира сего».
Один раз это случилось в Александровском саду, куда я как-то забрел рано утром в одно из воскресений. Сидел я на скамейке одной из боковых аллей и о чем-то задумался. Вдруг кто-то, подойдя сзади, закрыл мне ладонями глаза и крепко прижал к себе мою голову.
Я спрашиваю: «Кто это?» Ответа никакого. Рассердившись, я вырываюсь, оборачиваюсь и вижу перед собой. Великого князя Михаила Николаевича16. Я остолбенел и вытянулся, взяв под козырек.
«О чем ты задумался? Не случилась ли с тобой какая-либо неприятность?» – «Никак нет, ваше императорское высочество. Я просто задумался. Простите, что я вас не заметил и не отдал вам честь», – ответил я.
Великий князь рассмеялся, похлопал меня по плечу, высказал предположение, что я задумался о какой-нибудь хорошенькой женской головке, и добавил: «Но впредь надо быть внимательней. Хорошо, что это я, а не один из офицеров училища. Своему начальству не докладывай о нашей встрече, а то можешь угодить в карцер. Желаю тебе успеха в науке и. в любовных делах».
Великий князь ушел, а я еще долго стоял на месте с раскрытым ртом. В голове шевелилась мысль: «Да, это не поручик Веселовский». (Свою историю с поручиком Веселовским я помнил всегда. Будучи в 1917 году начальником штаба Верховного главнокомандующего, при встрече с командующим 3-й армией генерал-лейтенантом Веселовским я не удержался, чтобы не напомнить ему свой арест и рассказал про последовавшую потом встречу с Великим князем Михаилом Николаевичем. Позднее я слышал, что генерал-лейтенант Веселовский кому-то высказывал опасение, как бы я ему не насолил. Но этого, конечно, не случилось.)
Второй случай был в училище. Шел урок высшей математики. Профессор Будаев вызывал нас по очереди к доске и задавал нам задачи. Вдруг вбежал в класс дежурный портупей-юнкер и сказал, что в класс идет Великий князь Николай Николаевич Старший17.
Через несколько минут распахнулась дверь, и в класс вошел Великий князь в сопровождении начальника академии и училища генерала Шильдера18, командира батальона флигель-адъютанта полковника Прескотта19 и дежурного офицера.
Великий князь с нами поздоровался и, сев за одну из парт, предложил Будаеву продолжать урок. Просидев до конца урока и сказав нам несколько ласковых слов, Великий князь направился к выходу из класса.
Когда открылась дверь, я увидел длинную шеренгу почтенных старых инженерных генералов, выстроившихся, чтобы встретить своего Августейшего генерал-инспектора инженерных войск. Все это были члены Совета инженерной конференции.
Великий князь останавливался перед каждым, чрезвычайно милостиво с ними говорил, вспоминая различные случаи из их прежней жизни и службы. Видно было, что это было очень приятно и Великому князю, и старикам генералам. Чувствовалась между ними прочная и близкая связь.
Когда Великий князь подавал руку генералу, с которым разговаривал, последний наклонялся и целовал Великого князя в плечо.
Я видел в первый раз этот старый обычай, сохранившийся с Николаевских времен. Государем Александром III он был отменен, сам государь не позволял целовать себя в плечо, и этот обычай сохранялся и практиковался только при встрече стариков генералов, инженеров и артиллеристов, со своими шефами – генерал-инспектором инженерных войск Великим князем Николаем Николаевичем Старшим и генерал-фельдцейхмейстером Великим князем Михаилом Николаевичем.
Глядя на эту старинную процедуру, нам, молодежи, стало жаль, что этот обычай отменен: он был так трогателен и казался такой интимно прочной связью с представителями Императорского Дома.
Великий князь Николай Николаевич своим обращением со всеми и своей лаской покорял все сердца. Сравнивая с остатками старины новые веяния и новые отношения, становилось грустно. Долго мы еще переживали впечатления посещения Великого князя и восторженно их вспоминали.
Дворец Императора Павла I, превращенный в Инженерный замок, в котором помещались Николаевские Инженерная академия и училище и Инженерная конференция, помимо красоты своих помещений, вызывал большой интерес в связи с различными легендами и историческими воспоминаниями. Все юнкера, вновь поступавшие в Инженерное училище, стремились проникнуть в «тайны» замка и ознакомиться с различными потайными ходами, которых, по слухам и рассказам, было много.
Церковь академии и училища была устроена в бывшей спальне Императора Павла I. Рядом с церковью была маленькая комната, обставленная как гостиная; в ней был большой камин.
По преданию и по историческим описаниям, эта небольшая комната во время жизни в замке Павла I была его небольшим рабочим кабинетом. Так как Павел I боялся покушений на свою жизнь, то будто бы камин, находившийся в этом кабинете, прикрывал вход в тайный проход, который вел к каналу, окружавшему в то время замок со всех сторон; на канале же, в особой нише, устроенной в стене замка, якобы постоянно дежурила шлюпка с верными гребцами. Камин сдвигался с места после нажатия на особую кнопку.
По преданию, Павел I, услышав в роковую для него ночь на 11 марта 1801 года шум и крики в соседних комнатах, бросился к камину, нажал кнопку, но… механизм оказался испорченным, и камин не открыл путь к спасению. Император бросился тогда к оконной нише, вскочил на подоконник и прикрылся портьерой. Убийцы, ворвавшиеся в его кабинет и оттуда в спальню, не нашли Павла I. Они были уверены, что Императору удалось спастись, и перед ними встал вопрос о необходимости самим думать о спасении и бегстве. В эту минуту Беннигсен (или Зубов) увидел какую-то тень на портьере, прикрывавшей окно. Сорвали портьеру и обнаружили Императора. Павел I был оглушен ударом табакеркой по голове, а затем его перенесли в спальню на постель и там окончательно придушили шарфом.
Этот камин, прикрывавший якобы потайной ход, не давал покоя целому ряду поколений юнкеров, старавшихся открыть этот ход… Не избежали этого и мы. Несколько раз по ночам мы пробирались в комнату, примыкавшую к церкви, но, конечно, ничего не открыли.
Существовала легенда, что в ночь на 11 марта покойный Император бродит по замку. Мы также бродили в эту ночь по замку, невольно пугая друг друга, но ничего не видели.
Однажды, вернувшись из отпуска в 12 часов ночи, я прошел в комнату, в которой я спал со своим отделением, и, поспешно раздевшись, лег спать. Только я начал дремать, как услышал какой-то шорох рядом с кроватью. Быстро повернувшись, я с перепугом увидел, что поднялся квадрат паркета и из образовавшегося отверстия на меня смотрят два глаза, принадлежащие какой-то черной морде. Квадрат паркета быстро опустился, и видение исчезло. Я вскочил, ничего не понимая и убежденный, что это какой-то «дух» Инженерного замка.
На другой день после бессонной ночи я рассказал своим приятелям о «видении». Одни отнеслись недоверчиво: «ты просто врешь»; другие решили, что я был под сильным влиянием спиртных паров. Последнее было отчасти верно, и я сам стал сомневаться в реальности видения. Но разговоры об этом пошли, дошли до начальства, и я был приглашен на допрос. Началось расследование «дела».
Выяснилось, что таинственного ничего нет. Какой-то трубочист, ночью прочищавший внутренние дымоходы, ошибочно пробрался в какой-то ход и действительно поднял квадрат паркета, прикрывавший люк и идущую вниз железную лестницу. Все объяснилось просто, люк снаружи был совершенно не виден, дабы юнкера не вздумали пользоваться потайным ходом, но этот случай подтвердил, что в стенах Инженерного замка имеются какие-то ходы.
Зимний период, занятый учением и городскими развлечениями, пролетел как сон. Наступила весна, а с ней экзамены и подготовка к лагерному сбору. В первых числах мая мы перебрались в Усть-Ижорский саперный лагерь.
Лагерный сбор прошел быстро и весело. Я в Петербург совсем не ездил. Причиной этому была охота и небольшое увлечение. Ротный командир, полковник Прескотт, разрешил мне охотиться, и я, приобретя великолепного сеттера Пипо, все свободное время бродил с ружьем по окрестностям лагеря. Дичи было много: глухари, тетерева, белые куропатки, вальдшнепы, дупеля, бекасы. Я наслаждался.
Перед самым концом лагерного сбора произошла драматическая история, невольным виновником которой был я.
В одно из воскресений я решил отправиться на охоту. Переодевшись в охотничий костюм, я пошел в цейхгауз взять хранившееся там мое ружье и патроны. Надев патронташ и ягдташ, я взял ружье и, зарядив его, вышел из цейхгауза. Зарядил ружье потому, что уже в каких-нибудь ста шагах от цейхгауза была хорошая мочежина, на которой часто бывали бекасы. В этот момент меня позвали к дежурному офицеру, капитану Модраху, который сам был охотником и, как оказалось, позвал меня с тем, чтобы попросить обойти и обследовать одно место, где, как он думал, должно было быть много дичи.
Когда меня позвали, я вернулся в цейхгауз и, положив ружье на полку, предупредил каптенармуса, бывшего около цейхгауза, что я сейчас вернусь за ружьем.
Получив указание от капитана Модраха, я пошел к цейхгаузу. В это время со стороны цейхгауза раздался выстрел. Предчувствуя что-то недоброе, я бегом бросился на звук выстрела. Подбегая к цейхгаузу, я увидел страшную картину: каптенармус выносил из помещения своего мальчика лет девяти, у которого из шеи фонтаном била кровь. Бедный мальчик через несколько минут скончался.
Оказалось, что этот мальчик вместе с другим мальчиком лет десяти пробрались в цейхгауз и начали играть с моим ружьем. Десятилетний мальчик взвел курок ружья, прицелился в сына каптенармуса и выстрелил. Ружье, как я сказал, было заряжено, и весь заряд попал несчастному мальчику в шею.
Этот случай ужасно на меня подействовал и научил впредь быть очень осторожным при обращении с огнестрельным оружием. Конечно, я после этого случая больше в лагере Инженерного училища не охотился.
Для меня этот случай ограничился только нравственным мучением и послужил уроком на будущее. Каптенармус подтвердил следователю, что я его предупредил о том, что оставляю в цейхгаузе заряженное ружье, и что я сказал ему, чтобы он закрыл цейхгауз до моего возвращения. Он показал, что не исполнил моего указания и как-то не заметил мальчиков, пробравшихся в цейхгауз. Дело было прекращено, но тяжелое впечатление от всего виденного и сознание, что все же виноват я, долго меня преследовали.
Я сказал выше, что не ездил летом в Петербург и из-за небольшого увлечения. Вот история этого увлечения.
Как-то, будучи на охоте, я забрел в небольшое селение на берегу Невы – Ивановское. Дело было в субботу. Я решил переночевать в одной из крестьянских изб и рано утром в воскресенье продолжать охоту.
Выбрав более приличную на вид избу, я попросил разрешения у хозяина переночевать и попросил накормить меня яичницей, обещав, конечно, за все заплатить.
Устроившись в чистой горнице, я предвкушал удовольствие напиться чаю и съесть яичницу. Самовар, а затем яичницу принесла хозяйская дочь Маша, девушка лет 17—18. При виде ее я просто оторопел: красавица она была поразительная. Оказалась она и умницей и чрезвычайно милой и скромной девушкой.
С тех пор мои охотничьи экскурсии неизменно меня приводили в Ивановское. Девушка мне все больше и больше нравилась, и я, с присущей двадцатилетнему возрасту способностью увлекаться, чувствовал себя влюбленным.
Драматичный случай с сыном каптенармуса прекратил мои любовные похождения, да и настроение не позволяло об этом и подумать. Но сейчас же после производства в офицеры я, купив большую коробку шоколадных конфект, сел на Шлиссельбургский пароход и покатил в Ивановское.
Встретили меня там как-то менее ласково, чем во время моих посещений в бытность юнкером. Маша позволила, правда, себя поцеловать, но конфекты взять отказалась и убежала. Через несколько минут явилась ее мать и сказала мне приблизительно следующее: «Вот ты, барин, теперь офицер. А что ты хочешь от Маши, я так и не знаю. На что ей и мне твои конфекты? Если ты серьезный человек, то дай мне пятьдесят рублей, а для Маши купи материи на платье. Тогда будет хорошо и я не буду от тебя гнать моей девки».
Я свалился с неба. Дал старухе десять рублей и поспешил на пароходную пристань. Этим и кончилось мое увлечение и «хождение в народ».
Перед окончанием лагерного сбора нас перевели в Красное Село для участия в общих маневрах. Маневры закончились 8 августа 1888 года производством в офицеры выпускных юнкеров.
Собрали нас, выпускных, около Царского валика. Почистились мы, выстроились и, радостные, ожидали приезда Царя. Появился военный министр Ванновский20 и стал обходить выстроившихся юнкеров. При обходе им юнкеров Михайловского артиллерийского училища произошла сцена, оставшаяся мне памятной на всю жизнь и выявившая Ванновского как большого хама. Он увидел, что на одном из юнкеров был надет не казенный, а собственный, щегольской мундир, а это в строю строго запрещалось.
Выругав юнкера и пригрозив, что вместо производства в офицеры он отправит его под арест, генерал Ванновский обрушился на командира батареи Михайловского артиллерийского училища полковника Чернявского21, который заступился за юнкера, сказав, что он позволил ему надеть собственный мундир, так как казенный юнкер порвал, за что-то зацепившись его надевая.
Боже, что тут было! Генерал Ванновский кричал и ругался как извозчик. Бледный и дрожащий полковник Чернявский доказывал свое право и обязанность заступиться за юнкера, который не виноват. Не знаю, чем бы окончилась эта безобразная сцена, если бы не подъехал Государь Александр III.
Впоследствии (когда генерал Чернявский был членом Военного совета, а я начальником канцелярии Военного министерства, в 1914 г.) я как-то напомнил эту сцену генералу Чернявскому. Он, несмотря на то что прошло с тех пор более 26 лет, не мог говорить спокойно; он мне сказал, что он подавал после этого в отставку и генерал Ванновский в конце концов извинился. (Во всю мою последующую военную службу я убедился, что случаи хамского и грубого обращения со стороны начальства по отношению офицеров в Русской Императорской армии были чрезвычайно редки. Конечно, были исключения, были безобразно грубые начальники, как, например, генерал Сандецкий22. Но они составляли исключение. Вообще же необходимо констатировать, что в военном ведомстве было гораздо меньше случаев произвола, чем в гражданских ведомствах. В военном ведомстве не существовало произвола увольнения в административном порядке без объяснения причин.)
Государь Император обошел выстроившихся юнкеров. Здороваясь с юнкерами и со многими милостиво заговаривая, Государь, став затем перед серединой нашего фронта, произнес короткое слово с напутствием относительно нашей будущей офицерской службы и поздравил нас с производством в офицеры. Громовое «ура!» прогремело в ответ, и, распущенные по своим лагерям, мы бросились к своим палаткам и баракам, чтобы переодеться в офицерскую форму, которая у каждого была припасена.
Накануне производства в офицеры (если не ошибаюсь, 7 августа 1888 г.) состоялся объезд лагеря Императором Алексадром III вместе с Германским Императором Вильгельмом II. Я помню, что на всех нас произвела чарующее впечатление мощная фигура нашего Императора. Чувствовалось, что он держался с полным спокойствием и чрезвычайным достоинством. Рядом с ним молодой Германский Император Вильгельм II, как бы заискивающий и суетливый, производил определенно отрицательное впечатление.
Вечером 7 августа состоялась в Красносельском лагере вечерняя Заря с церемонией, а затем наступила томительная (для многих бессонная) ночь в ожидании долгожданного дня производства в офицеры.
Наступили трое знаменитых суток, в течение которых разрешалось вновь произведенным офицерам гулять вовсю. Полиция имела указание в течение этого времени не составлять протоколов на случай всяких инцидентов, участниками которых были офицеры, а комендантские адъютанты, проводя три ночи в наиболее посещаемых увеселительных заведениях и садах, имели указание не арестовывать офицеров, а лишь прекращать различные неприятные инциденты и стараться развозить по домам чересчур подгулявшую молодежь.
Публика знала этот обычай, и некоторые воздерживались в эти дни посещать различные злачные места, а те, которые ходили, или принимали участие в общем веселье, или относились к нему благосклонно.
Обыкновенно наиболее буйными были первый вечер и ночь в день производства. Учитывая это, наш выпуск Николаевского инженерного училища, дабы не попадать участниками крупных скандалов, а с другой стороны, вследствие желания большинства провести первый вечер после производства в кругу своих родных, друзей или знакомых (особенно с целью появиться в офицерской форме перед глазами своих зазноб), решил на общие празднества и совместные увеселения употребить 9 и 10 августа.
Первый вечер в день производства в офицеры я провел у моих старых знакомых Линдестремов. Михаила Федоровича Линдестрема (брата жены Н.Ф. Еранцова) я знал уже давно, а за время пребывания в Павловском военном училище очень к нему привязался, как к прекрасному человеку (особенно близок он мне был как такой же страстный охотник, как и я). Жену его, Марью Федоровну (рожденную Ергопуло), которая была старше меня на шесть лет, я отлично знал еще по Севастополю (она была родной племянницей Н.Ф. Еранцова).
На другой день после производства в офицеры, с утра, я сделал неудачный выезд в село Ивановское, мною выше описанный. Вернувшись в Петербург из Ивановского, я отправился в ресторан Палкина, где был назначен наш товарищеский выпускной обед.
После обеда мы «закрутили». Сначала поехали в Аркадию, где были для нас заказаны ложи в театре; затем там же поужинали и оттуда попали к цыганам. У меня осталось только воспоминание, что где-то я подносил на сцене букет какой-то диве, а публика, бывшая в театре, меня приветствовала, кричала «ура!» и какая-то депутация штатских («шпаков», как мы называли) появилась на той же сцене с шампанским и угощала меня и диву.
Как я вернулся в Инженерный замок, я не помню, но это был единственный и последний день моего кутежа после производства в офицеры; проснувшись на другой день, я обнаружил, что мой бумажник с деньгами исчез. Потерял ли я его, возвращаясь в училище, или его кто-либо украл – так и осталось невыясненным.
Оставшись без гроша, я занял немного денег и, послав телеграмму родителям в Севастополь с просьбой прислать денег на дорогу, выехал к Анне Николаевне Ронжиной в ее имение Доманино около станции Акуловка Николаевской железной дороги. В Доманино, в ожидании денег из дому, я провел у милой Анны Николаевны почти неделю. Развлекался охотой на тетеревов.
Получив деньги, я поехал в Севастополь. Пробыл там около трех недель и отправился в Одессу, чтобы явиться на службу в 11-й саперный Императора Николая I батальон, куда я был назначен.