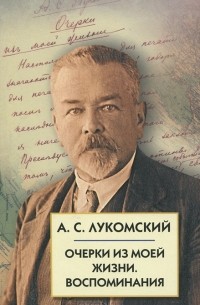Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Период до начала школьного времени. 1872-1879 гг
Первое запечатлевшееся в моей памяти впечатление на начавшемся для меня жизненном пути связано с поездкой моей матери в 1872 году на свидание с отцом, который был на постройке Царицынской железной дороги (в тот период начавшегося обширного строительства железных дорог в России, вследствие недостатка инженеров путей сообщений на эти постройки откомандировывались от военного ведомства военные инженеры).
Мне совершенно отчетливо представляется изба, в которой мы сидели за небольшим столом и, по-видимому, закусывали. Вдруг вбегает в комнату какой-то человек и кричит, что надо ехать, так как напали разбойники.
Начинается суета, выносят вещи, одевают меня, выносят и сажают на колени к матери в какую-то телегу. Затем крики, плач матери, и мы мчимся куда-то в темноту…
Впоследствии я неоднократно слышал рассказы моей матери, что после остановки на ночлег в каком-то постоялом дворе в Воронежской губернии прибежал ямщик и сказал, что с соседнего хутора прискакал верховой и сообщил, что на хутор напали разбойники и что поэтому надо немедленно уезжать. Это произвело страшный переполох, и моя мать, а также какая-то другая семья, остановившаяся на этом постоялом дворе, решили немедленно удирать. Быстро собрали вещи, сели в почтовые возки и полным ходом понеслись от опасного места.
Мне в это время было четыре года. Действительно ли это сохранившееся у меня первое жизненное впечатление или оно было навеяно последующими рассказами, судить, конечно, теперь трудно. Но это впечатление сохранилось у меня так ярко, что я думаю, что это было действительно мое первое сознательное впечатление, сохранившееся на всю жизнь. То, что затем я ничего не помню, что было в последующие два-три года, я объясняю тем, что просто ничего не было яркого, резкого, что запечатлевается в детской памяти.
В 1874 году мой отец перешел на постройку Лозово-Севастопольской железной дороги, и его дистанция была к северу от Симферополя, кажется до Александровска. Мать поселилась в Симферополе.
Следующее резкое детское воспоминание относится к 1875 году, когда мне было семь лет. Мать со мной, с моей сестрой Лелей (Еленой), которая была моложе меня на три года, и братом моим Сергеем, которому тогда был всего один год, поехала летом 1875 года навестить отца и провести с ним лето до осени.
Помню, как отец собирался ехать на лодке (по плавням Днепра) на охоту на уток. Мне было обещано, что меня отец возьмет на охоту, если я выучу таблицу умножения.
Отец уже снарядился для охоты и стал меня экзаменовать. Я сделал какую-то ошибку, и отец сказал, что на охоту не поеду. Конечно, рев, но затем я вспоминаю проклятую цифру и весь в слезах бегу за отцом и громко кричу требуемую цифру. Отец остановился и вновь меня проэкзаменовал. Я выдержал и, все еще всхлипывая, с гордостью надел на себя отцовский ягдташ и поехал с отцом на охоту…
Охота была удачна. Настреляно было много уток. Особенно на меня впечатление произвела убитая отцом птица-баба (пеликан). Эта первая охота вкоренила в меня любовь к охоте. Я с тех пор только об охоте и мечтал и впоследствии стал страстным охотником и хорошим стрелком.
Летом 1876 года моей матери вздумалось подарить мне гусарский костюм, с ментиком, шашкой. С этим костюмом мои детские воспоминания связывают много приятного, но много и неприятного.
По праздникам я получал разрешение одеться гусаром и идти в городской сад, против которого мы жили. Мое появление в саду, среди детей моего возраста, в полной гусарской форме, вызывало восторг у одних, зависть и насмешки у других и остро неприязненное отношение у уличных мальчишек и гимназистов младших классов местных гимназий. Претерпев несколько раз довольно сильные побои от «врагов», но не желая покориться и перестать носить гусарскую форму, я пытался только пробраться незаметно в какой-нибудь глухой угол сада и там изображал из себя взрослого гусара. Но скоро мои «укромные углы» были открыты, и мать, узнав о постоянно происходящих потасовках, отобрала мою форму и, к великому моему огорчению, кому-то подарила.
Осенью же 1876 года мы переехали в Севастополь, где отец купил участок земли и построил на Тотлебенской набережной дом. К этому времени была закончена постройка Лозово-Севастопольской железной дороги и отец был назначен инженером в царское имение Ливадия. В период ремонтов и построек отец жил в Ливадии, а остальное время в Севастополе. Мать жила в Севастополе, периодически наезжая в Ливадию, но обыкновенно на два-три летних месяца перевозились и мы, дети, в Ливадию.
Севастополь того времени еще больше чем наполовину был в развалинах после Крымской кампании 1854—1855 годов. Средняя часть города (гора) была почти вся в развалинах, и даже на главных окружающих город улицах (Екатерининский и Нахимовский проспекты и Большая Морская) не менее половины домов представляли собой развалины. Эти развалины являлись отличным убежищем для различного преступного элемента, которого в городе было много. Грабежи были постоянным явлением; без револьвера никто не рисковал по ночам ходить по уединенным и разрушенным частям города. Жители были буквально терроризованы шайкой грабителей; было много и убийств.
Наряду с серьезными грабежами случались и курьезы. Однажды у нас вечером собрались гости. Было, вероятно, еще не поздно, так как меня еще не отослали спать, как раздались отчаянные звонки на парадной. Горничная открыла дверь, и в гостиную влетела страшно взволнованная одна наша знакомая – старая дева. «Что с вами?» – «Меня ограбили». Старая девица взволнованным голосом рассказала, что недалеко от нашего дома на нее напали два грабителя, приставили ей револьвер к голове и потребовали кошелек и серьги. Она все это отдала. После этого грабители ее отпустили, подарив ей револьвер. «Как – револьвер? Где он?» – «Они его положили в эту сумочку». Окружающие ее слушатели буквально вырвали из ее рук сумочку, открыли и вынули оттуда… кусок колбасы.
Севастопольские развалины для нас, детей, представляли источник громадных наслаждений. Экскурсии по развалинам, игра в разбойников занимали все свободное от учебных занятий время, а науками нас не утруждали.
В этот период я познакомился и подружился с уличным мальчишкой по прозванию Козел. Рыжий, крупный, сильный и смелый, он знал все подвалы в развалинах и был незаменимым товарищем при наших экскурсиях и частых драках с другими мальчишками. Впоследствии, будучи уже офицером, при одном из моих приездов в Севастополь я встретил Козла. Он меня узнал, подошел, поздоровался, поговорил о детских воспоминаниях, сказал, что служит носильщиком в артели Русского общества пароходства и торговли. Я дал ему 25 рублей. Он долго не соглашался взять, но затем взял, сказав при этом: «Мне только не хочется, чтобы вы, Александр Сергеевич, подумали, что то, что я вам скажу, является следствием того, что вы мне дали 25 рублей. Мне очень неприятно, что я согласился их взять. Но верьте мне, что и без этого подарка я питаю к вам и вашей матушке самые теплые чувства. Я не забыл, что и вы и ваша матушка ко мне всегда хорошо относились и мне часто помогали. Знайте и скажите вашей матушке, что могут спать всегда спокойно с открытыми окнами. Ваш дом никогда никто не тронет». На мой недоуменный вопрос, как он может это гарантировать, он ответил: «Значит, могу».
Впоследствии при поимке какой-то шайки грабителей выяснилось, что Козел имел к ней не только несомненное отношение, но, по всем данным, был атаманом. Когда я тогда же сказал матери о моем разговоре с Козлом, она мне ответила, что и ей он говорил то же.
Кроме игр в севастопольских развалинах, было у нас еще два любимых развлечения: летом купание, а весной, осенью и зимой игра в войну на различных редутах, еще сохранившихся в окрестностях Севастополя. Игра в войну сопровождалась и охотой на воробьев, в изобилии ютившихся в кустах около Севастополя. Мы достали откуда-то два громадных старых пистолета, доставали порох и дробь. Как мы друг друга не покалечили – одному Богу известно. К счастью, все ограничивалось легкими ожогами и ссадинами, а три-четыре убитых воробья являлись трофеями, вполне искупавшими эти неприятности.
Еще более опасное занятие было купание. Хотя для присмотра за мной и за моей сестрой Лелей, которая моложе меня на три года, была в доме гувернантка, но она вне дома со мною совершенно не справлялась, и у меня с ней состоялось какое-то негласное соглашение, по которому после прихода на Мичманский бульвар (единственное место, куда в то время гувернантки водили на прогулку детей и где сами назначали встречи своим знакомым) я получал полную свободу действий, мог исчезать и обязан был только возвращаться на бульвар к 2½ часам дня, когда была пора возвращаться домой к обеду.
Все лето и начало осени я употреблял это свободное время (примерно 2½ часа) на купание. Присоединясь к группе моих сверстников, я стремился к Южной бухте. Обыкновенно мы купались около так называемой Царской пристани. Десятки раз мы прыгали с пристани в воду головой вниз, плавали вдоль пристани, а часто выплывали далеко в бухту.
Два раза я тонул: один раз неудачно поднырнув в соседнюю купальню и попав не во внутренний бассейн, а под пол купальни. Другой раз – обессилев при попытке взобраться на мокрую балку пристани, которая была над водой на пол-аршина. Оба раза я терял сознание и тонул, но был извлекаем из воды взрослыми купальщиками. Но эти случаи не отбили охоту к купанию, и я научился плавать как рыба.
Умение хорошо плавать помогло мне однажды спасти моего брата Сергея. Летом 1877 года, то есть когда мне было девять лет, я пошел купаться в купальню вместе с матерью и сестрой. Мой младший брат Сергей, которому было тогда три года, находился в купальне под присмотром няни.
Я уже вышел из воды и начал одеваться, когда няня начала кричать. Я сначала не понял, в чем дело, но затем увидел, что мой брат лежит на дне купальни и его голова просунулась через боковые стойки, поддерживавшие деревянный пол бассейна купальни. Оказалось, что няня недосмотрела, и он, играя, свалился в воду.
Мать растерялась и не знала, что делать. Я, как был в белье, бросился в воду, нырнул, освободил голову брата и вытащил его из воды. Брат наглотался воды, но его сейчас же привели в чувство, и все ограничилось рвотами, ревом и прошло благополучно. Я, конечно, оказался героем и, к величайшему моему удовольствию, был признан родителями хорошим пловцом и получил официальное разрешение купаться со своими друзьями без присмотра взрослых.
Вскоре после этого случая я чуть было не погубил моего брата Сергея. Мать уехала к отцу в Ливадию, а дома гувернантка-швейцарка и няня потеряли всякую власть над нами, детьми. Я как-то пригласил ко мне несколько моих сверстников, и мы устроили во дворе ряд игр. Главная из них, конечно, была игра в разбойников. Мы забрались на сеновал, затащили туда брата Сергея.
Только начали играть, как раздался зычный голос няни, разыскивавшей своего воспитанника. Мы немедленно через отверстие, в которое подавалось сено лошадям, спустились по имевшейся узкой лестнице в конюшню. На сеновале оставался один трехлетний Сергей. Кто-то ему крикнул: «Полезай за нами». Сергей, конечно, послушался, но сорвался и полетел вниз. В результате тяжелый перелом ноги, а мне, после возвращения вызванной из Ливадии матери, – жестокая нахлобучка…
Помню, и я пострадал два раза: один раз моя сестра Леля, с которой я из-за чего-то поссорился на площадке лестницы, меня толкнула, и я, упав навзничь, пересчитал головой все ступени лестницы. Как я остался жив – одному Господу известно, но болел после этого долго. Другой раз вывалился навзничь из окна первого этажа и раскроил себе кожу на голове. Кровотечение из раны было настолько сильное, что родителей своих напугал сильно.
Доставалось нам, старшим детям, мне и Леле, довольно сильно от матери за то, что мы часто ссорились между собой и дразнили младших – Сергея и Зину, которой было немного больше года.
Насколько я любил свои похождения в развалинах города, его окрестностях и купание, настолько терпеть не мог воскресные посещения семьи Рихтер (Оттон Борисович2 командовал в Севастополе корпусом, а затем был главноначальствующим Императорской квартиры). Там было четверо детей: старшая Эльси, годом меня старше; Коци, мой сверстник; Отто, примерно двумя годами меня моложе; Мици, девочка лет пяти. У Рихтеров надо было вести себя чинно, нельзя было громко кричать и заводить шумливые игры… Вообще, было нестерпимо скучно.
Война 1877 и 1878 годов, конечно, нас, детей, очень волновала, и мы, впитывая всякие слухи, болезненно и страстно ее переживали. Все остальное отошло на второй план.
Летом 1877 года мать повезла нас, детей, к отцу в Ливадию.
Помню, как однажды мать, мы, дети, и еще одна дама (София Ивановна Туловская, затем, по второму браку, Колюпанова) поехали из Ливадии на берег моря купаться. Во время нашего купания на горизонте появился дым. Мать и С.И. Туловская решили, что это турецкий монитор и что он будет обстреливать Ялту и Ливадию. Захватив нас, дамы, в полураздетом виде, бросились в экипаж, и мы во всю прыть лошадей поехали домой, в Ливадию, в надежде, что туда снаряды не будут доставать. Впоследствии выяснилось, что пароход этот был «Веста», возвращавшийся в Севастополь после боя с турецким монитором.
Детские переживания во время войны 1877—1878 годов в значительной степени повлияли на мою дальнейшую карьеру. Отец хотел меня отдать в реальное училище, чтобы я подготовился к высшему техническому учебному заведению и был впоследствии инженером. Я же, охваченный воинственным пылом, умолял отдать меня в военную гимназию.
Случай помог осуществлению моего желания. К осени 1878 года я был недостаточно подготовлен для поступления в реальное училище (мои развлечения в развалинах и на берегу моря, по-видимому, сильно мешали наукам), и родители решили отдать меня во второй класс училища в 1879 году. Между тем во время пребывания Императора Александра II в Ливадии весной 1879 года мой отец как-то случайно встретил Государя в парке Ливадийского дворца. Государь заговорил с отцом, стал его расспрашивать про нашу семью и, узнав, что мне, старшему сыну, уже минуло десять лет, спросил: «Ты его, конечно, отдашь в военную гимназию?»
Отец ответил, что я очень хочу быть в военной гимназии и служить на военной службе. Государь сказал: «Скажи ему, что я его устрою. Тебе же будет сообщено, в какую гимназию он будет определен». Родители были несколько смущены и огорчены, я же ликовал.
Летом 1879 года отец получил уведомление из Петербурга, что меня надо к августу доставить в Симбирск, где я, если выдержу вступительный экзамен, буду принят на казенный счет во второй класс. Родители были очень огорчены, что меня определяли в гимназию столь далекого от Севастополя Симбирска, но отказываться нельзя было. Мне же было совершенно безразлично, в какой город, в какую гимназию, – лишь бы она была военной.
Родители утешались тем, что впоследствии можно будет перевести меня поближе к Севастополю, и тем, что в Симбирске жила двоюродная тетка отца, Варвара Егоровна Радионова, и все двоюродные сестры – Екатерина Николаевна Языкова и Варвара Николаевна фон Румель.
Я думаю, что представит некоторый интерес описание Севастополя и его окрестностей, относящееся к 1878—1879 годам. Хотя мне было тогда всего 10—11 лет, но благодаря игре в разбойники в севастопольских развалинах и в войну на старых севастопольских укреплениях, оставшихся с 1854 года, я отлично помню Севастополь того времени.
В приличном, то есть застроенном виде были только Нахимовский проспект и Большая Морская улица, да и то на них местами зияли большие пустыри и попадалось довольно много развалин домов, пострадавших от бомбардировок в Севастопольскую кампанию.
Дома в два и три этажа попадались как исключение; большая часть домов были одноэтажные небольшие особняки. На Нахимовском проспекте от Б. Морской до нынешнего Приморского бульвара была прилично застроена только южная сторона улицы, прилегающая к горе; северная же часть улицы, примыкающая к стороне моря, была застроена жалкими домишками, за которыми, вплоть до Северной бухты, тянулся пустырь, на котором был раскинут базар с лотками и небольшими лавочками.
Приморского бульвара не существовало; был грязный и обширный пустырь, покрытый бурьяном, и имелось несколько небольших домиков, скорее лачуг.
Около Графской пристани возвышалось лучшее по тому времени здание в городе – гостиница Киста (старая гостиница, около которой впоследствии была построена новая, ныне существующая гостиница Киста). Затем тут же на Графской площади было здание морского ведомства (управление порта) и управление (контора) Русского общества пароходства и торговли.
На Екатерининской улице, начинавшейся от площади у Графской пристани и огибавшей центральную часть города с восточной стороны, было только десятка два приличных домов; из них лучшими были гостиница Ветцеля, здание почты, дом градоначальника, Морской собор, так называемый Тотлебенский дом и не больше десятка частных домов в один и два этажа. Все остальное пространство представляло груду сплошных развалин. Здание таможни тогда только строилось рядом с небольшим домиком, где помещалась старая таможня.
Была застроена небольшими, но хорошими домами Тотлебенская набережная (от таможни), на которой находился и наш дом.
Дорога от Екатерининской улицы до вокзала тянулась по сплошному пустырю; попадались только отдельные домики, принадлежавшие портовым рабочим и отставным матросам. Площадь, соединяющая Б. Морскую и Екатерининскую улицы, была под сенным базаром; на ней был только один дом в три этажа, совершенно казарменного вида, принадлежавший богатому хлеботорговцу и спекулянту по торговле землей в Крыму – Дуранте. Исторического бульвара еще не существовало.
Вся средняя часть Севастополя (гористая) была в сплошных развалинах. Наверху только возвышался собор, и вокруг него несколько казенных и городских зданий (между прочим реальное училище и несколько домов морского ведомства). Частных зданий в средней части Севастополя было мало, и они были разбросаны среди развалин.
К западу от Б. Морской (по направлению к Херсонесу и примыкая к морю) было небольшое предместье, застроенное небольшими домиками, принадлежавшими большей частью семьям старых матросов.
Корабельная и Северная стороны имели свои небольшие поселки, населенные рабочим людом.
Водопровода в городе не было; воду по домам развозили в бочках. Более состоятельные люди имели своих лошадей для привоза воды, ибо водовозы брали за воду сравнительно дорого (по 1 копейке за ведро). Канализации, конечно, не было. Освещение улиц (да и то только главных) было крайне мизерное. Только на главных улицах были жалкие остатки мостовой (вряд ли ремонтировавшейся со времен Севастопольской кампании), и все улицы были покрыты густым и толстым слоем известковой пыли.
Интеллигентная часть населения города состояла из военных (чины частей местного гарнизона), небольшой группы инженеров и архитекторов, поселившихся в Севастополе после проведения Лозово-Севастопольской железной дороги, небольшого чиновничьего кружка, учительского персонала двух учебных заведений (мужского и женского), нескольких врачей, довольно значительной группы старых отставных моряков (было несколько видных защитников Севастополя 1854 г.), небольшого кружка старых севастопольских аборигенов (преимущественно занимавших места по городскому управлению) и нескольких дельцов по хлебной торговле и спекуляции с покупкой и перепродажей земли. Жизнь была очень патриархальная. Все друг друга знали, друг у друга бывали, играли в карты, устраивали любительские спектакли и живые картины.
Весенние, летние и осенние вечера большинство не занятых какой-либо работой проводило на Мичманском бульваре, где в ротонде танцевали, играли в карты и ужи нал и… Жили так, как текла жизнь и в других захолустных небольших городах России.
После Севастопольской кампании 1854—1855 годов Севастополь совершенно захирел. Флота у России не было. Новых жителей в Севастополе не появилось. Подвоза к Севастополю каких-либо товаров не было, а следовательно, бездействовал и торговый порт.
Денег на восстановление разрушенных домов не было, и Севастополь постепенно умирал. Оживление началось только после постройки Лозово-Севастопольской железной дороги, но до Турецкой войны 1877—1878 годов еще не было заметных результатов.
В Херсонесе еще не начались раскопки старого города. Был только небольшой Херсонесский монастырь, испытывавший страшную нужду. Георгиевский монастырь также был страшно беден, и монастырская братия с трудом существовала. Балаклава представляла из себя небольшую, жалкую рыбацкую деревушку. Инкерманский монастырь также едва существовал.
Вокруг Севастополя было много хуторов, процветавших до Крымской войны, но к описываемому времени только два-три из них вновь превратились в цветущие сады и имели хорошие виноградники. Остальные же носили еще свежие следы разрушения за время Крымской войны и были в самом жалком виде. Все ближайшие окрестности Севастополя были еще покрыты полузасыпавшимися траншеями и редутами, и всюду были следы лагерей неприятельских войск…
В общем картина была очень грустная, и все указывало на большую нужду населения.