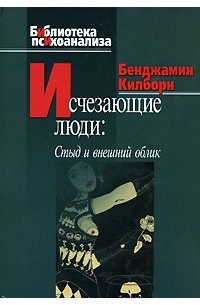Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 2. Фантазия, страдание и неверное толкование
Пиранделло и непризнаваемое
Сицилийский писатель Луиджи Пиранделло, не желая, чтобы после смерти его тело было выставлено на всеобщее обозрение, оставил письменное распоряжение о том, как поступить в случае его смерти: «Когда я умру, не одевайте меня. Оберните меня обнаженного простыней. Никаких цветов на ложе, и никаких зажженных свечей. Телега бедняка. И никому не позволяйте сопровождать меня, ни друзьям, ни родственникам. Телега, лошадь, кучер e basta [и все]. Сожгите меня…»
Никто из современных писателей не пытался преодолеть страх того, что его не признают, сочтут никчемным или начнут осмеивать – принимая во внимание современную трагедию, связанную с обликом и стыдом, – больше, чем Пиранделло. Согласно наблюдению Отца из его пьесы «Шесть персонажей в поисках автора», даже когда нам удается «напялить маску невозмутимого достоинства», в душе каждый из нас это «сто», «тысяча» и больше видимостей /…/ словом, столько, сколько их в нас заложено. В каждом из нас сидит способность с одним быть одним, с другим – другим». Происходят постыдные и «глубоко личные вещи, в которых трудно сознаться». Это непостижимое, до сих пор непоколебимо защищавшее интимность, приобретает огромную силу. Снова и снова персонажи Пиранделло пытаются «поддерживать» облик, тщетно стараются «восстановить прежнее достоинство, водрузить его, цельное и прочное, как памятник над могилой». Как заметил Пиранделло: «Подобным образом мы можем не оглядываться на наш стыд».
Не только поддержание облика совершенно бесполезно, но, что еще хуже, сами попытки сделать это способствуют гибели. Обиженные тем, что их представляют актеры, которые не знают и не могут их знать, и даже не похожи на них, Шесть Персонажей протестуют против собственного «воплощения» чужими руками. «Вот так мы выглядим. Видите, это наши тела, а это наши лица…» На что Директор замечает: «На сцене вы не можете быть такими, как в жизни! Здесь вас будет играть актер, и все!» Эта идея находит отзвук в безысходности, которую испытывает Отец, уверенный, что любая попытка взаимодействия с его стороны будет ниспровергнута актерами. Ни один актер не может быть тем, «что я представляю собой на самом деле», и таким, «как я воспринимаю себя сам», – восклицает он, и его настроению вторит Сын. «Ваши актеры смотрят на нас как-то “со стороны”. Неужели вам представляется возможным проводить свою жизнь перед неким кривым зеркалом, которое искажает вашу внешность так, что вы не можете себя узнать».
Безуспешные старания добиться от мира достаточно похожего отражения пронизывают все творчество Пиранделло и выражают глубокое чувство внутренней неустойчивости. Можно ли при этом удивляться, что его персонажи совершают тщетные и бесконечные попытки сделать свой облик устойчивым? Чувствуя себя неузнаваемыми для самих себя, персонажи Пиранделло смотрят на других, и в этой надежде заключаются фрустрация, гнев, мука и отчаяние. Захваченные конфликтами, связанными со стыдом и страхом быть поверженными, униженные, покинутые и страдающие персонажи Пиранделло делают все возможное, чтобы быть признанными перед лицом тех, кто не способен видеть.
Снова и снова в своей работе с пациентами я сталкиваюсь с их непреодолимым чувством, что они непризнаваемы, что для них, какими они являются на самом деле, нет места, что они сражаются как со страхом признания, так и со страхом быть неувиденными. Они так понимают свое отношение ко мне в переносе: повторение ощущения, что ты обречен быть невидимым, хотя страстно жаждешь признания. Они испытывают значительные затруднения с вербализацией этих чувств, которые представляются столь противоречивыми, болезненными, приводящими в замешательство, столь унизительными и интимными.
В качестве реакции на противоречие между тем, как, по опасениям человека, его увидят окружающие, и тем, как он хочет выглядеть, стыд отсылает нас к воображаемым (хотя иногда и разделяемым другими) стандартам самооценки (Эго-идеалам). Тот, кто обнаружил, что не может представить себя в глазах окружающих, вынужден возлагать еще больше надежд на свой облик в тщетных попытках сделать себя доступным для понимания, осознание чего ведет к чрезмерной уязвимости. Один из друзей Франца Кафки написал: «Франц не сможет выжить /…/ У него нет ни малейшего убежища. Будучи поэтом, он уязвим для всего, от чего мы защищены. Он напоминает голого среди толпы одетых». К этой идее я еще вернусь в своем обсуждении пьесы Пиранделло «Обнаженные одеваются».
Многие писатели и художники говорили о своем желании исчезнуть, стать анонимными. Райнер Мария Рильке, который родился в Праге в 1875 г., восемью годами позже, чем Пиранделло, писал о фантазиях, касающихся анонимности: «Какое счастье проснуться там, где никто ничего от тебя не ждет /…/ О, как это согревает мне душу..» Как его персонаж Мальте [Malte], Рильке хочет быть «ничьим сыном», а в своей эпитафии он жаждет быть «ничьим сном». Подобным же образом Чарльз Диккенс, который в детстве был брошен (что точно известно из документов и нашло выражение в его лучших романах), писал о себе самом: «Я казался просто пустым местом, которое никто не замечал, но которое, однако, у каждого стояло на пути».