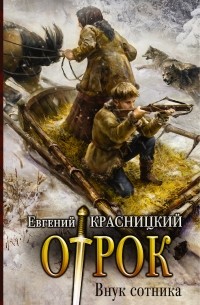Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 5
Уже тронув телегу, Мишка спохватился: а где же Чиф? Вот уж у кого не было проблем! В деревне осталось всего три собаки, все три жили на Нинеином подворье и все три были суками. Чиф и сам по себе был хорош, но тут, благодаря обстоятельствам, он и вообще автоматически заделался «первым парнем на деревне». Если же учесть, что, благодаря своей принадлежности к тварям бессловесным, рамками моногамии он ограничен не был и формальными супружескими обязательствами не обременен… Не жизнь – малина!
Когда Мишка вслед за Нинеей бежал к дому покойного Велимира, он краем сознания отметил, как откуда-то вывернулся Чиф и припустил вслед за хозяином, а потом, когда Нинея схлестнулась с отцом Михаилом, рванул в сторону леса, словно за ним черти гнались. Наверно, почувствовал своим звериным чутьем, что здесь творятся вещи запредельные, и ударился в панику.
Мишка призывно засвистел и закрутил головой, высматривая пса. Чиф выскочил из ближайших кустов, но к телеге не подошел, а затрусил параллельным курсом, настороженно принюхиваясь. Мишка, прекрасно изучивший все его повадки, понял, что пес все еще напуган и в любой момент готов прянуть в сторону. Все понятно: сегодня хозяин открылся Чифу с совершенно новой, доселе неизвестной стороны – непонятной, а потому опасной.
– Чиф, Чиф, хороший мой, не бойся, иди сюда! Ко мне, Чиф, ко мне!
Мишка нашарил в котомке с едой завернутый в тряпицу хлеб, отломил кусочек и протянул псу. Очень осторожно Чиф приблизился, долго обнюхивал угощение и руку, его протягивающую, наконец, видимо, не обнаружив никаких тревожных признаков, аккуратно, передними зубами, захватил хлеб и не разжевывая проглотил. И все! Страхи мгновенно улетучились, настороженность пропала – хозяин свой, такой же, как всегда, мы куда-то едем, жизнь прекрасна!
«Непрошибаемый оптимизм! Просто позавидовать можно. Вот бы и вам так, сэр. Так нет! Вечно обвешаетесь проблемами, как собака блохами. И сейчас голова пухнет; только перечислить – и то тошно делается.
Во-первых, экстрасенсорные способности. Они у меня действительно есть, или проявляются только в присутствии Нинеи, и только тогда, когда она активно ворожит? ТАМ я ничего подобного за собой не замечал, но после всех пертурбаций, которые устроил мне Максим Леонидович, могло, конечно, произойти все, что угодно. Только вот сейчас эту проблему я не решу, да и неизвестно, решу ли когда-нибудь вообще.
Во-вторых, отец Михаил. Сколько ему осталось? Нинея, скорее всего, не ошиблась, да и кашляет он очень уж скверно, тут и врачом быть не нужно, чтобы понять. Жалко-то как, не старый еще – сорока нет. Эту проблему я тоже, наверно, не решу, но попытаться обязан. Подключить к этому тетку Настену, Юльку… Блин!!! Юльку нельзя! Она же обязательно попытается свои новые навыки применить – отдаст попу кусок своей жизни!
Господи! За что Ты ставишь меня перед ТАКИМ выбором? Продлить жизнь отцу Михаилу и укоротить Юльке или оставить все, как есть, и смотреть на медленное угасание своего друга… Сволочь!!! Развлекаешься с рабами своими, мать Твою! Эксперименты ставишь, как на крысах? А вот хрен Тебе! Считай, что крыса попалась нестандартная! Найду выход, а Ты там хоть удавись, если есть на чем! Богохульствую? Да, богохульствую! А на кой Ты мне разум дал, способный до богохульства додуматься, и даже до того, что Тебя нет? Вот этим-то разумом… Разумом…
Вот именно, сэр Майкл! Кончайте истерику и беритесь за ум, коли вам его с барского, пардон, Господнего плеча отвалили, да еще устами Экклезиаста, на пару с Нинеей, напомнили, что пользоваться этим органом бывает иногда очень пользительно. И не хрен лаяться на того, кто сей инструмент вам презентовал, независимо от того, существует Он или нет! А для начала, возьмите да покормите отца Михаила – хоть и малая, но польза».
– Отче, проснись!
– Я не сплю.
– Поесть надо, приподнимись, я помогу.
– Мы далеко отъехали?
«Ну да, он же меня кем-то вроде сталкера считает, вроде как я его из Зоны вытаскиваю. Ну, кино!»
– Далеко, отче, далеко… Ну-ка, давай, сядем.
– Не надо, я – сам.
Мишка достал из котомки хлеб, копченого леща, несколько вареных репок, луковицу.
«Смотри-ка, знает Нинея монашеский рацион, ничего скоромного не положила».
– Это Беляна дала?
– Конечно, у Нинеи я бы и не взял!
– Как же ты, отрок, столько времени в вертепе дьявольском обретался? Язычеством антихристовым не испоганился?
– Да нет, вроде бы… Поешь, отче Михаил.
– А молитву перед трапезой сотворить? Отвык уже?
– Прости, отче, о тебе же беспокоюсь, ослабел ведь совсем…
– Телом, но не духом! Повторяй за мной:
«Семнадцатый псалом. Длинный, блин, больше пятидесяти стихов. Это когда Давид спасся от Саула и других своих врагов. Как раз к нынешней ситуации… Стоп! Почему к нынешней? Это же песнь победителя!»
«Это кто ж ему под ноги пал, Нинея, что ли? Похоже, у тезки крыша протекла, впрочем, не удивительно: в его-то состоянии да после таких приключений… Не спешите с диагнозом, сэр! Человек, как известно, выглядит дураком в двух случаях. Тогда, когда он действительно дурак, и тут комментировать нечего. И тогда, когда цели его неизвестны. Он себе что-то такое делает, по своим планам, а окружающим кажется, что дурь творит, пока результат не появится.
Зачем его к Нинее понесло? Блин! Нинея же мне сама сказала: он за мной приехал! Вызволить невинного отрока из рук колдуньи. Так он же своего и добился! Проник в логово нечисти, покропил святой водой место самоубийства (это он так Нинею на поединок вызывал), а потом одолел ее – вырвал меня из колдовских тенет!
Господи, так меня же и не держал никто, и Нинея отступилась потому, что я влез, а то лежал бы ты сейчас “грузом двести”… Отче святой, ты же с ветряными мельницами воевал, Дон Кихот ты мой чахоточный, жизнью рисковал, думал, что меня спасаешь! Ну до чего же ты человек золотой, как же я люблю тебя…»
Мишка вдруг ощутил комок в горле и вроде бы даже влагу в глазах.
– Вижу, умилила тебя молитва Господня, отрок! – по-своему истолковал Мишкины чувства отец Михаил. – Значит, не проникла еще мерзость языческая в душу твою, вовремя меня Господь привел.
– Вовремя, отче, еще как вовремя! Поешь хоть немного, отче, смотреть больно, как ты изнемог. Ну, пожалуйста, рыбка вот, хлебушек…
Отец Михаил поклевал, как цыпленок, и снова лег, закрыл глаза. То ли уснул, то ли задумался.
«А я-то дурак: “сталкер, сталкер” – спасаю его, вывожу из опасного места. А оказывается, это он за меня насмерть бился и спас. И ведь не объяснишь ничего – язык не повернется. Что значит – исходная точка зрения, базовая шкала оценок. Смотрим на одно и то же, но каждый со своей колокольни, и видим разное».
Отец Михаил…
Поговаривали, что в село Ратное, на место приходского священника, его сослали в качестве наказания за какую-то провинность. Какую именно – никто толком не знал, но дыма без огня не бывает. Не так уж много на Руси священнослужителей, учившихся в самом Константинополе, и по всяким медвежьим углам их, без особых на то причин, не разбрасывают.
Учить детей он вызвался сам, чем сразу же приятно удивил ратнинцев. До сих пор они о таком не слыхали, что, впрочем, и не удивительно – указ о создании церковно-приходских школ будет издан только через четыре века, Иваном Грозным. Не то чтобы население села Ратного было уж совсем темнотой безграмотной, скорее наоборот: неумение читать и писать считалось изъяном, причем настолько существенным, что могло даже расстроить свадьбу.
Ходила по селу байка о девке, которая, не сумев разобрать послание, закинутое ей через забор ухажером, от большого ума поперлась к попу, чтобы прочел. А там оказалось такое… Дальше версии разнились в зависимости от того, кто и в какой компании эту душераздирающую историю излагал.
Что в ней было правдой, что вымыслом – бог весть, однако факт оставался фактом: уровень домашнего образования, получаемого отпрысками ратнинцев, был, мягко говоря, очень и очень разнообразным. Программа же, которую за четыре зимы усваивали ученики отца Михаила, по меркам своего времени, для сельского жителя была просто блестящей: Закон Божий, церковное пение, чтение, письмо, четыре действия арифметики и некий симбиоз истории с географией.
Внук бывшего сотника Корнея, забывший, в результате странной болезни, все, чему его до этого учили, сначала привлек внимание отца Михаила тем, что очень быстро восстанавливал «забытое» да еще так, что учитель порой задавался вопросом: «А учил ли я его этому?» Мишке, еще не осознавшему себя, ничего не стоило ляпнуть: «Волга впадает в Каспийское море» или «Шестью восемь – сорок восемь», начисто игнорируя тот факт, что ни река, ни море с такими названиями никому неизвестны, а таблицу умножения проходят только в «выпускном классе».
Отец Михаил начал исподволь экзаменовать странного ученика и получил результат, буквально не укладывающийся в голове. Закона Божьего Мишка не знал начисто, зато считал, кажется, лучше своего учителя. Во всяком случае, древнеегипетскую задачу о семи семикомнатных домах с семью кошками в каждой комнате он решил в уме за несколько секунд. Отца Михаила просто в дрожь кинуло, когда он вспомнил, сколько времени потратил на решение этой задачи много лет назад, сам еще будучи учеником.
Читал Мишка с трудом, словно часть букв была ему незнакома, зато географию знал – можно было только диву даваться (правда, только физическую, а не политическую). Мог запросто сослаться в разговоре на высказывание какого-нибудь древнего философа, вроде Аристотеля или Диогена, но ни слова не знал из житий святых или поучений русских святителей. Без запинки перечислял всех киевских князей из династии Рюриковичей, но даты исторических событий употреблял почему-то на латинский манер – от Рождества Христова, а не от Сотворения Мира. Отец Михаил потом специально пересчитывал – получалось правильно!
Знал Корнеев внук об относительно недавних событиях европейской истории: завоевании Вильгельмом Нормандским Британии, взятии крестоносцами Иерусалима, но не мог назвать имени своего сюзерена – князя Туровского, не имел понятия об именах Митрополита всея Руси и Вселенского Патриарха.
Окончательно же добил Мишка своего учителя тем, что, взявшись, по предложению священника, учиться играть в шахматы, «надрал» того в первой же партии. Даже в Киеве было сложно отыскать партнера для этой игры, даже в Константинополе она не была еще достаточно распространена, а здесь, в глухом селе, какой-то мальчишка… И ведь никаких признаков происков врага рода человеческого – Мишка не боялся ни креста, ни ладана, ни святой воды!
Еще интереснее стало на второй год обучения. Отец Михаил не знал, разумеется, о метаморфозе, произошедшей с Мишкой летом, но понял, что парень научился скрывать «нештатные» знания. Зато беседовать с ним стало гораздо увлекательнее, порой священник ловил себя на том, что разговаривает с учеником, как со взрослым человеком, и не просто со взрослым, а с получившим не худшее, чем у него, образование, только в какой-то совершенно неизвестной области знаний и уж в совершенно невообразимом учебном заведении.
Посиделки за шахматами два раза в неделю стали традицией, приятной для отца Михаила и горячо одобряемой Мишкиной матерью. Каждый раз она давала Мишке с собой объемистый кувшин с горячим сбитнем, а если отец Михаил не держал в этот день строгий пост, то и что-нибудь из выпечки – на закуску. Дед, по своему обыкновению, ворчал: «Попа из парня сделаете», – но мать, втихомолку ностальгировавшая по молодости, проведенной в «столичном» Турове, имела на этот счет собственное мнение.
Мишке тоже нравились визиты к отцу Михаилу: тот был прекрасным собеседником и настоящим кладезем информации.
В одной из таких бесед Мишка, неожиданно для себя, однажды узнал, что раскол Руси на удельные княжества уже, собственно, начался. Оказывается, еще четверть века назад в Любече произошел княжеский съезд, где князья договорились о разделе русской земли. На первый раз землю поделили на три части: непосредственно Киев и подчиненные ему земли, Ростово-Суздальская земля с Переяславлем и Чернигов с Муромом.
– Но этим же дело не кончится! – отец Михаил говорил с искренней болью. – Будут делить дальше! Лествичное право – ловушка! Умершему наследует не сын, а следующий брат, и только тогда, когда умрет последний из братьев, наступает черед следующего поколения. А если один из братьев не дождался наследства, его дети лишаются всего! В следующем поколении нужно уже разбираться с правами внуков, всяких там троюродных племянников, родней по женской линии и прочее. Все запутывается совершенно!
Но это же князья, за каждым из них стоит вооруженная сила, значит, есть соблазн «подправить» наследственное право силой меча. А если уж совсем не повезет, можно уйти в степь, договориться с половцами и добыть себе удел с их помощью. Что остается потом после такой помощи? Пепел деревень, зарастающие поля, караваны невольников, уводимые в степи!
Ты посмотри, Миша, мы же только обороняемся. На западе давят германцы: Старград уже стал Ольденбургом, Лаба – Эльбой, Одра – Одером, Бранный Бор – Бранденбургом. Лютичи, бодричи и лужбичи до того между собой перегрызлись, что чуть вообще земель своих не лишились. Огромными трудами и кровью вытолкали германцев за Лабу, а о том, чтобы все славянские земли вернуть, и речи нет. Чехи и ляхи приняли католичество. Одних германцы давят, других с севера пруссы терзают, с юга – угры. Дунай – тоже славянские земли – оседлали угры и те же германцы. С юга давит степь. С востока булгары. А мы все делимся, делимся, делимся…
– Но ведь и Европа делится. Распалась Римская империя, распалась империя Карла Великого…
– Но создается империя германской нации! Они наступают! Не только на восток, но и на юг – крестоносцы взяли Иерусалим, хозяйничают в Северной Африке.
– И в чем же между нами разница?
– В наследовании! Королю наследует только старший сын, остальные сыновья в лучшем случае – герцоги. То же самое и у остальных владетелей земель: все остается старшему сыну. Младшему – конь, доспех и родительское благословение. Ищи себе землю, сажай на нее крестьян, тогда будет, что оставить своему наследнику. Поэтому и прут во все стороны, как тесто из квашни. Ты думаешь, кто составил основную силу крестового похода? Те самые младшие сыновья!
– Ну, а если и у нас так же? Куда идти за новыми землями?
– Да куда угодно! На юг – в степь, на восток – через булгар и дальше, там земли и конца не видно. Можно и на запад, латинскую ересь искоренять. Нельзя только на месте толочься, землю на лоскутья растаскивать. Доиграемся до того, что в каждой деревне свой князь будет: слабые, бедные, злые, постоянно грызущиеся между собой. Приходи, кто хочешь, и бери голыми руками по одному.
– И остановить это нельзя?
– Как?
– Изменить правила наследования.
– Хорошо бы… Вон в Венгрии – полновластный король никакого удельного самовластья не допускает, и пожалуйста – огромная мощная Держава. У ляхов Болеслав Кривоустый такое же дело начал – и Держава рождается. А у нас… Олег Святославович из цареградской ссылки сбежал, половцев на Русь навел. Урвал себе Новгород Северский, Муром… Мономаха ненавидит, науськивает на него своего брата Давида Черниговского. И ведь прав – по лествичному праву в Киеве Давид должен сидеть, а не Мономах. Полоцкие Всеславичи ножи точат, не могут забыть, как их отца в Киев в цепях увезли. А увели-то за дело – колдуном был.
Мономах, конечно, правитель сильный, но стар – за семьдесят. Кто после него на киевский великий стол сядет? Хорошо бы, старший сын Мстислав, но допустят ли? Родство у них под стать королям: сам Мономах – внук византийского императора, женат на дочери последнего саксонского короля Гаральда… Не зря же византийцы готовы признать династию Мономашичей. Но даже если великим князем киевским станет Мстислав, то что потом? Он ведь тоже не молод – за пятьдесят. Одно дело, если сможет передать престол сыну, другое – если своей очереди потребуют братья. Образуются две княжеские ветви, претендующие на верховную власть – Святославичи и Мономашичи. Вот тут и жди кровопролития!
– А Церковь? Не венчать на княжение братьев, а только старших сыновей и объявить православный крестовый поход, хотя бы на булгар.
– Ты думаешь, Церковь всесильна? Назови ближайшее селение, в котором есть православный храм и настоятель? Что замолчал? Далеко? Да, далеко, а вокруг или откровенные язычники, или лишь слегка к христианству прислонившиеся. Волхвы только того и ждут, когда князья с Церковью разругаются. Ты думаешь, мало найдется безземельных князей, которые не побрезгуют поддержкой волхвов и от христианства отпадут? Да, почитай, все изгои, которые в степь подаются, тут же и про крест забывают.
– А если ускорить процесс деления?
– Зачем?
– Сейчас князья в своих княжествах в сущности чужие. Приходит время, кто-то умирает, кого-то выгоняют, или еще по какой-то причине освобождается тот или иной стол, и начинается движение по всей цепочке – князья переезжают на новые места. Кому-то распределение не нравится – и он берется за оружие, опять места освобождаются, и снова начинается движение.
Какой смысл заботиться о хозяйстве, благоустраивать землю, если через некоторое время переберешься на новое место? Только и делают, что в полюдье ездят дань собирать да еще стараются урвать побольше, чтобы и в Киев положенное отослать, и чтобы себе осталось.
Теперь представь себе, отче, что кто-то решил остаться на своем уделе навсегда. Начинает заботиться о земле, устраивать торговые пути, населять пустующие земли, строить крепости. Становится сильнее, а значит, может расширить свои пределы. А самое главное – может передать созданное и накопленное не какому-то троюродному племяннику, которого, может быть, ненавидел всю жизнь, а собственному сыну. Но для этого нужно, чтобы удел стал вотчиной – передавался из поколения в поколение в одной семье.
Тогда и дружинников можно будет на землю посадить, пусть кормятся со своего хозяйства, а то сейчас они с добычи живут – в полюдье, как в набег на врага ходят, жить-то больше не с чего. А так они не просто княжьи владения защищать будут, а дом родной – совсем другое дело.
Вот посмотри: мы в Ратном живем со своего хозяйства и одновременно являемся серьезной военной силой. Попробовал бы кто-нибудь наши земли разорять! Такое бы ему устроили! А если у князя будет десять таких сел или двадцать? Это же две тысячи прекрасно подготовленных и вооруженных ратников, живущих здесь всю жизнь, каждый кустик, каждую тропинку знающих! Кто сможет его со стола Туровского согнать?
– А кто сможет усидеть на Туровском столе, если вы его согнать захотите? Ты что, Миша, не слыхал, как князей выгоняли? Тем более, если, как ты говоришь, будет двадцать таких Ратных. Думаешь, случайно вас только для обороны от внешнего врага или для дальних походов используют, но никогда – в борьбе за княжеский стол? Во-первых, неизвестно, на чью сторону вы встанете, а во-вторых, у вас может в привычку войти князей из стольного града гонять. Вы же действительно сила серьезная.
– Но Ярослав Мудрый не побоялся же нас здесь поселить?
– А если сейчас князь Туровский решит из воли князя Киевского выйти, вы за кого встанете? А ведь ты именно это предлагаешь! Ярослав Мудрый был прав, но это было больше ста лет назад, тогда против Киева никто и тявкнуть не смел, а сейчас вы можете оказаться опаснее любого врага. Киевский князь боится, что вы перейдете на сторону удельного князя, а Туровский – что вы, по приказу из Киева, на него ополчитесь.
Ты думаешь, почему твоего деда в боярское достоинство не возвели? Почему после него постороннего боярина командовать поставили? Боятся вас, вы – сила, вы уже сто лет своим умом живете, свою землю сами отвоевали и сами бережете. Вы не зависите ни от кого! Станет вас больше, так вы и вообще своего князя себе изберете, а волхвы языческие вас в этом только поддержат, выбор князя на вече – это в их обычаях.
Вот такие бывали у двух Михаилов разговоры, а случалось, поднимались темы и покруче.
– Да не слушай ты, Миша, бабьей трепотни: язычники, дикари, человеческие жертвы богам своим приносят… Глупости это все. Может, когда-то, в незапамятные времена такое и было, но только обычай этот славянами давно отринут. А снова его на нашу землю варяги с нурманами принесли. Кровью животных идолов ублажали, это – да, но не человеческой. Ты вообще, что о славянском язычестве знаешь?
– Ну, есть много богов: Перун, Велес, Даждьбог, Сварог, Лада… Всех и не упомнишь.
– А кто главный?
– Сварог, он – отец богов.
– А про Триглава слышал?
– Нет.
– Так вот: это – не существо с тремя головами, а единство трех сущностей. Есть один Бог – Вседержитель, Отец Творения, который своей всетворною любовью – Ладой – создал первоначальное бытие. Это Сварог – отец света. Есть его сын – Даждьбог, то есть Солнце. И есть существо «Светло» – Светлый Дух – которое явилось на землю и воплотилось в роде человеческом.
– Но это же Святая Троица – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой! Все, как у христиан! И Лада тоже – ведь сказано: «Бог есть любовь»! А как же остальные: Перун, Велес, другие?
– А это всего лишь воплощения Высшего Божества.
– Но им же поклоняются как самостоятельным богам!
– Судьба славян была тяжела, Миша. Борьба с римлянами, гуннами, готами, аварское иго, хазары. Многое было утрачено, вернее сказать, упрощено.
– Так что же, христиане вернули славянам утерянное?
– Нет, скорее всего, у древних верований славян и у христианства где-то в глубине веков есть общие корни, а в ту ветвь древних верований, которая получила название «христианство», другие народы, жившие совсем в других условиях, привнесли очень много своего, славянам чуждого. Ну, например, некоторые славянские племена представляли себе ад в виде ледяной пустыни. А в землях, где зародилось христианство, льда нет, там, наоборот, есть беспощадное жгучее солнце, вот и представление об адских муках связано с огнем, а не с холодом.
– А на самом деле?
– В Ветхом Завете про ад – ни слова, так что очень многое зависит от воображения людей, а воображение связано с тем, что они видят вокруг себя.
– Но в Откровении Иоанна Богослова…
– А это уже Новый Завет, как раз то, что и было привнесено позднее. Да и это, по правде говоря, могло в Новый Завет не попасть.
– Как это так?
– Апостолов было двенадцать, а Евангелий только четыре: от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Почему? Остальные ученики Сына Божьего тоже ведь оставили воспоминания об Учителе. Но эти тексты не признаны каноническими. Они есть, их сохраняют, но в Святое Писание они не вошли. И таких – не признанных – довольно много. Есть и про славян.
– Про славян?
– Это считается ересью, происками дьявола, но существует повествование о том, что у Иисуса Христа был сын. Ты про то, что Андрей Первозванный посетил в свое время Русь, конечно, слышал?
– Да, воздвиг крест и проповедовал на тех горах, где потом построили Киев.
– Да, но, говорят, пришел он сюда не просто так, а спасая от преследования и убийства младенца, родившегося от любви Иисуса и Марии Магдалины. И путешествовал между многими славянскими племенами, а когда мальчик вошел в возраст мужа, славяне приводили к нему юных дев, и он возлегал с ними, и семя сына Христова рассеялось по славянскому народу. Так что утверждение славян «мы – внуки Божьи» не лишено зерна истины. Видишь, как все непросто переплелось?
– Но это же действительно ересь. Тебя за это сюда сослали?
– За такое не ссылают. За такое либо убивают сразу, либо дают умереть медленно в тесном заточении. А тебе я это рассказал не для того, чтобы ты еретиком сделался, а для того, чтобы понял: все очень и очень непросто. Христианство и язычество противостоят по большей части в телесной жизни, а в духовной… Вот Перун, например, стал Ильей Пророком, Велес – Власием, Макошь сменила имя на Параскеву Пятницу, но суть осталась прежней; моральные нормы славян, в принципе, не противоречат десяти заповедям христианства, ну, и прочее.
Дело не в иной вере, а в иной жизни. Христианский князь – единовластен, а князь у язычников был просто воеводой. Без слова веча и без одобрения волхва ничего сделать не мог. Понятно?
– Другой способ управления требует и другой идеологии, другого духовного обоснования, язычество самовластия не приемлет.
– Так, а единобожие, сиречь монотеизм: «Един Бог на небе – един царь на земле».
«Да, а Нинея-то говорила – все ворованное. Послушала бы она те наши беседы, а еще лучше, поговорили бы они между собой по душам, вот было бы интересно послушать. Она-то тоже мне про внуков Божьих толковала, только по-другому. Так ведь нет, убить друг друга готовы».
– Миша! – монах впервые за весь день обратился к Мишке по имени. – Трудно тебе там было? Ведьма-то, поди, искушала от истинной веры отречься?
– Да нет, впрямую не искушала, так только – намеками.
– А ты?
– А я ей из Экклезиаста читал.
– И?..
– А она Экклезиаста, оказывается, лучше меня знает, и философов древних тоже.
– Удивляешься?
– Странно как-то: старуха, в глухой деревне…
– Старуха… нет, Миша, не простая это старуха… Ходила она когда-то в шелках и ела на золоте.
– Нинея?!
– Гредислава… Боярышня древлянская.
– Боярышня? Так древлянское княжество еще княгиня Ольга… Сто пятьдесят лет прошло!
– Больше. Почти сто восемьдесят. Только род Нинеи такой древний, что для него и триста лет – не срок. Ничего не забыли и ничего не простили.
– Но здесь земли дреговичей, а не древлян.
– Где-то же древлянам надо было укрыться.
– А Беляна? Их матери за двоюродными братьями замужем были.
– Не знаю, Миша, не знаю. Братья те, думаю, тоже не из простых. Был мне наказ от Владыки – дознаться обо всем, да поздно теперь.
– Почему поздно?
– Она не расскажет, а люди ее мертвы все. Покарал Господь, не стал людской кары дожидаться.
– Так о ней сам Владыка знает?
– И не только о ней. Ты думаешь, мало их – от прежних времен оставшихся? Думаешь, смирились они с потерей власти? Мы про них все должны знать, готовыми быть ко всему…
Отец Михаил снова зашелся в кашле.
– Полежи, отче, не разговаривай.
– Нет, я тебя расспросить должен. Намекала, говоришь? На что?
– Ну… Попрекнула, что Экклезиаст христианином не был, а мы его книгу священной почитаем.
– А ты?
– Не нашелся я, не сумел ответить.
– Вот они – происки Врага рода человеческого: посеять сомнение, смутить. А потом это сомнение тебя, как ржа, изнутри разъест.
– А как же я ответить должен был?
– Потом, Миша, потом об этом поговорим. Люди к ней какие-нибудь приходили?
– Не видел, но я дней семь в беспамятстве был… Или спал, Нинея усыплять умеет.
– Что, и среди дня усыпляла?
– Бывало. Она говорила – сон лучшее лекарство.
– Бывало, значит… А странностей каких-нибудь не заметил?
– Так там все странное, деревня-то вымерла.
– А кто хоронил? Не Нинея же трупы таскала?
– Вроде бы Велимир. Сложил всех на костер, тризну справил, а потом сам повесился.
– Это она тебе сказала?
– Да.
– А поля он тоже в одиночку все сжал?
– Да я же говорю – все странное. Поля сжаты, огороды убраны, скотина вся куда-то подевалась. А у Нинеи запасов на несколько лет и все свежее.
– Помог ей кто-то?
– Она сказала: мир не без добрых людей.
– Настолько добрых, что в жатву свои поля бросили и Нинее помогать пришли?
– Не знаю… Может, нечистую силу призвала, а в уплату всю скотину ей отдала?
– Сам-то веришь в то, что сказал?
– Ну… поля же кто-то сжал…
– Ты кликушу-то темную из себя не строй!
«Вот уж хрен вам, стукачом епископального КГБ я не нанимался!»
– Прости, отче, не придумалось больше ничего.
– Я отдохну, Миша, а ты подумай, может, еще чего вспомнишь?
До Ратного успели добраться еще засветло. Мишка, въехав в речные ворота, поворотил было к церкви, но отец Михаил, молчавший почти всю оставшуюся дорогу, вдруг подал голос:
– Правь к себе, Миша, и помоги сесть: негоже мне перед паствой слабость являть.
«Вот она, сила церкви: больной – не больной, а пиар обеспечь! Съездил в логово нечисти, с колдуньей сразился, отрока невинного освободил, теперь семейный конфликт улаживать будет. Орел наш отец Михаил не убоялся и преуспел! Бабий Интернет распространит и обсудит, паства оценит и проникнется».
– Войдем в дом, стой возле меня и ничего не говори!
– Да зачем, мы же…
– Не перечь! О семье подумай: если одному можно супротив хозяина дома норов выказывать, значит, и другим тоже! Смиренность и почтение – не блажь старших, а залог крепости семейных уз и покоя в доме. Благолепие трудом и терпением созидается, а наипаче – обузданием гордыни. Я тебя когда-нибудь плохому учил?
– Нет, что ты!
– Вот и делай, что говорю. Будь ты хоть трижды прав, почтение к старшим являть обязан, понеже младшие, на тебя глядя, к тебе тоже почтения проявлять не станут. Понял?
– Понял, но…
– Никаких «но»! Только стой и молчи. Я за тебя все сделаю, ибо уничижение паче гордости.
«И в этом тоже сила. Иерархическая структура: подчиняйся старшим и получишь право требовать подчинения от младших. Каждый на своем месте работает на достижение общей цели. И попробуй, блин, только вертухнись!»
Все семейство было в сборе: то ли случайно так вышло, то ли ждали, предупрежденные отцом Михаилом.
– Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас!
Отец Михаил размашисто перекрестился в Красный угол.
– Аминь!
Семейство дружно закрестилось в ответ.
«Все-таки, ждали: очень уж стройно ответили “Аминь”».
– Исполать тебе, брат мой во Христе Кирилл! В твердой вере ты воспитал внука своего отрока Михаила! Не поддался он искушениям дьявольским и неколебим остался, в вертепе нечистой силы пребывая. Не убоялся в поединке с богомерзкой колдуньей встать на сторону истинной веры и помочь мне сатанинским чарам противостоять.
Ведомо мне, брате, что провинился отрок Михаил перед тобой, проявив непочтение к главе семьи и строптивость. И вина его тяжка, ибо сказано в заповедях Господних: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе».
Тяжка вина отрока Михаила, но молю тебя, брате, – монах опустился на колени и, дернув за рукав, заставил сделать то же самое Мишку, – прости его, ибо искупил он вину страданиями телесными, духовным подвигом и искренним раскаянием!
«Как излагает, заслушаться можно! Интересно, когда это я раскаяться успел?»
Дед, постукивая деревяшкой, подошел к Мишке, выдержал драматическую паузу, потом величественно возгласил:
– Встань, Михайла! По молению пастыря нашего духовного, отца Михаила, прощаю тебя и впредь виной твоей не попрекну. И другим, – дед возвысил голос, – попрекать не велю!
Трижды облобызал поднявшегося на ноги внука и, похоже, сам умилился чуть ли не до слез. Дальше пошли уж совсем деревенские политесы: дед настойчиво приглашал отца Михаила отужинать, тот отговаривался необходимостью творить вечернюю молитву, дед настаивал, аргументируя неизбежность празднества «возвращением блудного э-э-э внука», бабы в это время шустро накрывали на стол.
Дождавшись окончания процесса сервировки, отец Михаил дал-таки себя уговорить и, твердо взяв Мишку за плечо, подвел к столу.
– Мнится мне, что по деяниям своим сей отрок заслужил честь восседать за столом с честными мужами!
– Что ж… Кхе! Не дите уже, садись, Михайла!
«Блин! Они что, репетировали, что ли? Вон как Лавр хитро подмигивает. Нет, ну до чего же велика сила ритуала! Все всё знают, всё понимают, и ни на шаг от заведенного порядка. Благолепие… Есть в этом все-таки глубочайший прагматический смысл: каждый “знает свой маневр” и всегда, в любых обстоятельствах, может рассчитывать на всех остальных, будучи точно осведомленным, чего от кого ожидать.
Вот сложилась нештатная ситуация: дед перегнул палку, а внук в штопор вошел – что делать? Скандалы, разборки, попреки – хрен знает на сколько времени, бывает, что и на всю жизнь. А тут исполнили ритуал – и порядок. Все снова на своих местах, и, что примечательно, наложен запрет на упоминание о произошедшем в будущем. Внук более не штопорит, а в качестве извинения: “Садись, Михайла!” Истинно благолепие!»
В отличие от Тома Сойера, никакой популярности у сверстников Мишка своим фортелем не приобрел. То ли насвистел великий Марк Твен, то ли менталитет другой… Версию событий общественное мнение выработало следующую: Мишка, обидевшись на наказание, сбежал из дому, заблудился в лесу и попался злой колдунье. Та его чуть не сожрала, но отец Михаил, с риском для жизни, отрока выручил.
Правдой во всем этом было только то, что Нинея отца Михаила и вправду чуть не порешила. Тот же факт, что плененного злой колдуньей отрока запросто навещали родственники, общественность вполне благополучно игнорировала, возможно, в воспитательных целях, а уж на что там обиделся сопляк, так это и вообще никого не трогало ни в малейшей степени.
«Вот так, сэр Майкл! Ни тебе желтой прессы, ни тебе папарацци, а результат тот же самый: не Иванов, а Рабинович, не в лотерею, а в преферанс, и не сто тысяч, а три рубля, и не выиграл, а проиграл».
Со сверстниками отношения не складывались совершенно. Пацан в общем теле в последнее время как-то приутих, а взрослому очень уж тошно было принимать участие в детских играх и трепотне. Мишка старался, как мог, но ребятишки, видимо, чувствовали эту натужность, и к присутствию его в своей компании относились весьма прохладно.
Совсем другое дело – Юлька. На следующий день после возвращения Мишка попросил у деда серебряное зеркальце, найденное летом в вещах погибшей язычницы. Дед, разумеется, в самых язвительных тонах поинтересовался, не рано ли внуку девкам подарки таскать, но выслушав рассказ о том, как Юлька его лечила, молча полез в свои закрома и вытащил зеркальце.
– Только не суй как-нибудь, поднеси с почтением, с вежливыми словами, чтоб не подумала, откупаешься, мол, чтоб должником не быть. Понял?
– А если брать не захочет?
– Чтоб девка да от зеркала отказалась? Кхе! Дите ты еще, Михайла!
– Она – с норовом…
– А лекарке иначе и нельзя! Иди-иди, не бойся, примет она твой подарок.
Обычный для жилья лекарки запах сушеных трав сегодня почти не чувствовался: тетка Настена варила в объемистом горшке что-то чрезвычайно вонючее; у Мишки, вошедшего со свежего воздуха, даже дух перехватило. Креститься тут было не на что, и Мишка по языческому обычаю поклонился очагу.
– Здрава будь, матушка Настена, здравствуй, Юля!
Только поздоровавшись, Мишка понял, что пришел, похоже, не вовремя. Юлька, явно чем-то крепко расстроенная, зло толкла в ступке нечто наверняка лекарственное, глаза и нос у нее покраснели, то ли от смрада, стоявшего в избе, то ли от просившихся наружу слез. Судя по нахохленному виду, скорее всего, имела место вторая причина. Мишка даже хотел было повернуться и уйти, но Настена уже ответила на приветствие и пригласила проходить.
– Ну, Михайла, поправился?
– Да, тетка Настена, спасибо Юле, чуть не с того света вытащила!
– Вот! – тут же подхватила Юлька, видимо, продолжая начавшийся до Мишкиного прихода разговор. – А ты говоришь: «не надо».
– Не «не надо», а рано! Всякому знанию свое время! Нинея совсем, видать, из ума выжила – ребенка такому учить!
– Сама не можешь, вот и злишься!
Хорошо, что у Настены в руке в этот момент оказалось полотенце, а не что-нибудь посерьезнее; впрочем и оплеуха влажным полотенцем тоже удовольствия Юльке не доставила.
– Тетка Настена! – Мишка счел своим долгом вмешаться. – Поздно уже, обратно-то не разучится! Да и я бы помер, наверно. Не надо ее ругать.
– Да не о том речь! Она же теперь надо и не надо это знание в ход пускать будет, загубит себя!
– Да что я, дура, что ли?
– Все равно не удержишься! Ты – лекарка природная, не стерпишь, если у тебя на руках больной умирает!
– Тетка Настена, может, я ее к Нинее свожу? Она наверняка, может зарок на нее наложить до какого-то возраста?
– Не поеду! Ишь чего придумал! – взорвалась криком Юлька. – Сам вылечился, а о других не думаешь?
– Нет, Миня, не надо, – Настена расстроенно вздохнула. – Зарок я и сама наложить могу… Думаешь, мы из-за чего с утра лаемся? Из-за этого самого.
– Не дается?
– Попробовала бы, – Настена невесело усмехнулась. – Мала еще мне противиться! Но нельзя с нами против воли – силу можем потерять, а у нее силы будет, как подрастет, побольше, чем у меня, а может, побольше, чем и у Нинеи. Шестое поколение выращиваем, жалко такую работу испортить.
«Блин! Они что же, еще и евгеникой балуются? Выращивают людей с заранее рассчитанными способностями? Двенадцатый век. Охренеть! Вот почему про Юлькиного отца ничего неизвестно – специально “производителя” подбирали. Где же это, интересно, генеалогические таблицы ведут, в каком исследовательском центре?»
– Юль, а я тебе подарок принес, – Мишка решил сменить тему разговора. – Ты только не подумай, что откупаюсь. Я твой должник до конца жизни, просто хотел тебе приятное сделать.
– Ах! Мама, ты глянь!
«Прав был дед Корней, девка она и есть девка, хоть и “селекционного производства”. Все неприятности мгновенно забыты, ступка с лекарством – тоже, все внимание на собственное отражение в полированном кружочке серебра».
– А не слишком ли дорогой подарок, Миня?
– Не дороже жизни, тетка Настена!
– Так, значит, думаешь? И насчет долга до конца жизни не для красного словца ляпнул?
– Не веришь? Возьми с меня клятву или зарок наложи.
– Не нужно, ты сам себе зарок, – Настена поколебалась, о чем-то раздумывая. – Ну, если такое дело, садись, разговор к тебе есть.
Юлька тут же встрепенулась:
– Мама, не надо!
– Молчи! Смотри и слушай внимательно, вникай, как тебя Нинея учила. Не каждый день увидишь, как из мальчишки мужчина проклевывается!
– Мама! Рано ему еще! Не надо!
– А тебе не рано? О чем мы с тобой с утра сегодня талдычим? Тебе не рано, а ему рано?
«Ой, о чем это они? Вроде бы не про секс… А как еще из меня мужчину сделать можно? Какой-нибудь обряд языческий? Чего Юлька испугалась? И почему я – сам себе зарок? Блин! Ну что же это я все время во что-то влипаю?»
– Михайла, – спросила Настена, – ты когда в Ратное вернулся?
– Вчера, с отцом Михаилом.
– Так он что, живой?
Лекарка даже не скрывала удивления, видимо ожидала, что отец Михаил живым из Нинеиной веси не выберется.
– Да, живой, а что?
– Ну видишь, мама? – тут же воспользовалась паузой Юлька. – Не надо, есть еще время!
Настена отрицательно покачала головой.
– Уже начали, отменять не будем.
Внимательно глядя на дочь, Настена негромко, но очень раздельно произнесла:
– Сосредоточься. Ты Михайлу чувствовать уже научилась, сейчас будешь мне говорить: когда он точно вспоминает, когда – нет. Слушай внимательно, ищи объяснения – наши, лекарские, которых Михайла не знает.
Настена еще немного поглядела на Юльку, словно убеждаясь в том, что та настроилась должным образом, потом повернулась к Мишке.
– Поп с Нинеей встречался?
– Да, она его чуть не убила.
– Как он спасся? Знаешь?
– Мне показалось, что это я помешал… Нет, не показалось – Нинея потом сама сказала, что я вовремя встрял.
– Рассказывай подробно. Юля, внемли, у него пока еще воспоминания свежие, потом потускнеют, ничего не поймешь!
Мишка прикрыл глаза, стараясь восстановить не только зрительные образы, но и воспоминания об ощущениях и чувствах, хотелось помочь Юльке да и самому было интересно. Начал медленно говорить:
– Они встали друг против друга, Нинея рукой вот так сделала… А он за крест взялся…
– Что ты почувствовал? Ведь почувствовал же?
– Это словами не объяснить.
– Говори, как получится, Юлька поймет.
– В общем, вместо двух человек как бы один сделался, и это была Нинея… почти. От отца Михаила мало оставалось, но оставалось, я точно знаю. А Нинея что-то приказывала, но не словами, а как-то так, ну, как своим телом управляешь.
– Юля?
– Да, мам. Так и было – она повелевала, добивалась полного подчинения, но он чем-то мешал.
– Миня, что он делал?
– Молитвы читал, сначала вслух, потом уже не мог губами шевелить и читал про себя.
– Юля?
– Да, тело ему уже не подчинялось.
– Какие молитвы он читал, помнишь?
– Не слышно было, но, по-моему, «Символ Веры».
– Какие там слова?
– «Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.
И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Им же вся быша».
– Хватит! – прервала Юлька. – Мама, не чувствует он ничего, для него это только слова, а поп этим спасался. Наверно, дело не в словах, а в вере.
– А я тебе, что говорю все время? Дураки заклинания заучивают, и ничего не выходит, потому что дело не в словах! Надо всего себя в нужное состояние привести, хотя бы, как этот поп. Для него каждое слово – не только звук, но и образ, чувство, ощущение. Он весь меняется, когда свои заклинания произносит, другим становится: сильнее, умнее, прозорливее. Ему такое открывается, о чем в другое время он и помыслить не мог – и в себе открывается, и в окружающем мире.
А так, вон, Минька пробубнил по-заученному – и ни уму, ни сердцу. Надумал бы спасаться такой молитвой, и не вышло б ничего. Потому тебе и говорю все время: наговор лечебный сам по себе ничего не лечит. Надо, чтобы больной в него поверил всем своим существом, а для этого в наговор лекарь верить должен. И не важно, какие слова ты говоришь, лишь бы они на тебя и на больного нужное действие оказали.
Тут все важно: и ритм, и чередование звуков, и смысл слов тоже не последнее дело. Только слов ведь много, можно и другие подобрать, лишь бы все остальное не разрушилось. Христиане – дураки, перевели все с чужого языка, ритм утратили, музыку стиха, игру смыслов и намеков. Только такие исступленные, как наш поп, этими молитвами и могут спасаться, а остальные – как Минька: бу-бу-бу, бу-бу-бу, и ничего.
«А она ведь права! Сколько переводов выдержал исходный текст? С иудейского на греческий, с греческого на русский. Или не с иудейского? Ну что за наказание: ни хрена толком не знаю! Вроде бы там еще и арамейский язык присутствовал с какого-то боку. И вообще, в качестве одного из исходников Библии, кажется, назывался кодекс царя Хаммурапи. А он-то на каком языке был?
Помню, еще пацаном, в шестидесятые годы, читал статью в журнале “Советский экран”. Писалось там про эксперимент по переводу текстов кинофильмов на иностранные языки. Взяли одну фразу из Гоголя, кажется: “По утрам она ела вареные бураки и сплетничала”. Перевели последовательно на десять языков, а потом обратно на русский, и получилось: “Она выкидывала из шалаша ненужные вещи, а он радостно бил в там-там”.
Вот так и мы “бьем в там-там”. Вчера отец Михаил читал семнадцатый псалом – песнь победителя. Какая там песнь – на каждой строчке спотыкаешься, а в исходнике, наверно, действительно петь можно было…»
– О чем задумался, Миня? – переключила свое внимание на Мишку Настена.
– А что это вы делаете?
– Потерпи, Миня, все поймешь. Юля! Отдохнула? Давай дальше. Подчинила Нинея попа, а потом?
– А дальше я как-то у них третьим оказался и все Нинее испортил.
– Сам-то понял, как это у тебя вышло?
– Кажется, понял. Они друг друга ненавидели и презирали, а я их обоих любил, ну, так на так и вышло – все рассыпалось.
– Юля?
– Все так.
– Нет, не так! Чувства правильные, а слова нет!
– Какие слова?
– «Ненавидели и презирали». Ненавидят только того, кого боятся! А того, кого боятся, не презирают. Понятно?
– Это Нинея-то боялась? Да если б не Минька, она его бы… Ой, мама, страшно-то как!
– Ну, поняла наконец?
– Это же не для лечения, это для убийства… Вот гадина, чему же она меня научила?
– Вижу, что не поняла. Это не для лечения и не для убийства. Это для полного подчинения. А с тем, кого ты под себя подмяла полностью, ты можешь делать все, что захочешь: вылечить, убить, сделать рабом, заставить других убивать – все, что захочешь!
– Мама, прости, я думала лечить… Я не знала…
– Прекрати реветь! Должна была знать! Наше ведовство от Макоши, а Нинеино – от Велеса! Чего ты тут не знала?
– Зачем она меня так? Мама, за что?
– Зачем? А сама не понимаешь? Миня, а ты?
– Может, ей помощница нужна? Внучки-то еще маленькие, а все остальные перемерли.
– Кто перемер? Одна деревня? Да Нинея в округе на семь дней пути в любой деревне любую девчонку себе забрать может! Она волхва! Она умереть не имеет права, пока смену себе не вырастит. А тут такой подарок – знахарка, в шестом поколении выпестованная, с первого показа науку усваивает. Знаешь, сколько нужно учиться тому, что ты с Минькой сделала? Полжизни! А к кому прибежала? К парню, который с попом дружит, а не христианин, в Светлых богов не верит, а они его любят. Да где такое еще найдешь?
– Тетка Настена, так она теперь за Юлькой охотиться станет, надо же как-то ее защитить!
– Юлька! Хватит ныть! Слышала, что Михайла Фролыч сейчас сказал?
– Да как он меня защитит?
– Ты СЛЫШАЛА, что он сказал?
– Ой, он же и вправду… Минька, ты что? Мама, а что же мне теперь?..
– А ничего. К Нинее – ни ногой, науку Нинеину забудь, а в остальном живи, как жила. Ты сейчас редкий случай увидела: в мальчишке мужчина проклюнулся – он понял, что ему есть кого защищать. Никто его не заставлял, никто ему ничего не обещал, он сам решил, а ты это решение почувствовала.
«Вот это номер! Нинея мне совсем недавно о том же самом толковала. А ТАМ считается, что мужчиной становишься, когда первый раз трахнешься. Теперь понятно, почему у рыцаря обязательно должна была быть дама сердца. Это как бы свидетельство зрелости и независимости – готовность сложить, если нужно, голову, защищая не свою семью или собственность (это естественно), а того, кого ты сам выбрал. Кхе, как говорит дед Корней. А что тут еще скажешь?»
– А теперь, Михайла, поговорим о том, что я сразу сказать тебе хотела. Я, правда, думала, что поп наш от Нинеи живым не вернется, но все равно он долго не протянет.
– А помочь ему можно? Я видел, что он кровью кашляет, ты можешь с этим что-нибудь сделать?
– Чтобы больному помочь, он сам должен этого хотеть. При его болезни надо хорошо питаться и скоромной пищей не пренебрегать, жить в тепле, чистоте и покое. А ты же знаешь, как он живет: постами себя изнуряет, на холодном полу часами на коленях стоит, в доме у него холодно, не прибрано, неуютно. Плоть он, видите ли, умерщвляет! Если уж создал вас Бог по образу и подобию своему, так зачем же такую хорошую работу портить? Не могу я ему помочь, и никто не может, потому, что он сам этого не хочет.
Настена произнесла последнюю фразу с ожесточением, но было видно, что злится она не на попа, а на то, что приходится произносить ненавистные для любого лекаря слова: «Ничем не могу помочь».
– А теперь слушай, Михайла, что я тебе скажу! После отца Михаила сюда обязательно другого попа пришлют, и никто не знает, как он ко мне и Юльке отнесется. Ты, может, и не знаешь, но во многих местах знахарей и лекарей попы изгоняли, а бывало, и убивали. Не своими руками, конечно, людей натравливали, но все равно убивали они. Если со мной что-нибудь случится…
– Тетка Настена! Да у нас…
– Не перебивай! Я сказала: ЕСЛИ со мной что-нибудь случится, позаботишься о Юльке ты. Она тебе сейчас покажет, как из нашего дома можно незаметно уйти. Уведешь ее сначала в лес – ты уже доказал, что в лесу выжить сможешь. Потом… Потом она тебе скажет, куда дальше, но на самый крайний случай или, если понадобится на короткое время укрыться, отведешь к Нинее.
– Мама, ты же сама сказала…
– Знаю, но случиться может всякое, это – на самый крайний случай. Нинеи не бойся: это ты раньше ничего не знала, а теперь ей с тобой управиться трудно будет, а отказать в помощи она не посмеет. Ну а через год или два, когда ты первую кровь уронишь, она с тобой уже и не совладает, не по силам ты ей станешь.
– Значит, отец Михаил еще года два прожить может?
– Не знаю, Михайла, не знаю. За ним смерть два раза в год будет приходить – весной и осенью, когда сыро. Переживет осень – переживет и зиму, если не застудится сильно. Переживет весну – переживет и лето. Все! Юля, одевайся, покажешь Михайле путь к броду.
– Подожди, тетка Настена, я еще спросить хотел.
– Ну, спрашивай.
– Почему у нас от этой болезни только старики умерли, а у Нинеи все? Она ведь травы тоже знает, а ничего сделать не могла.
– Как тебе сказать… – Настена в задумчивости потеребила в руках полотенце. – Тут какой-то одной причины нет, много всякого… Перво-наперво, жили мы и они по-разному. У нас в селе жилья с земляным полом, наверно, и нет уже почти ни у кого, а в Нинеиной деревне?
– Почти везде – земляной, и топят по-черному, в некоторых домах даже не печи, а очаги.
– Вот: старые обычаи блюли, а на земляном полу болеют чаще, это тебе не только любой лекарь, но и просто понимающий человек скажет. И пищу по-другому готовили, да и сама пища отличалась. А Нинея… Да, травы она, конечно, знает, но я вот, лекарка, больше ничем другим не занимаюсь – только лечу, а Нинея – волхва. Волхвы не только лечением, а сразу всем занимаются, бывает, что это – не всегда хорошо.
– Когда все сразу, то ничего как следует?
– Ну не так, чтоб уж совсем, но если бы она была просто лекаркой, может, и нашла бы способ… Трудно сказать.
– А ты бы их смогла вылечить?
Настена помолчала, Мишка уже решил, что ляпнул бестактность, снова заставляя Настену признаться в своей беспомощности, но оказалось, что лекарка просто раздумывает: как объяснить мальчишке сложные для его понимания вещи.
– Ты вот, если огурчиков малосольных с простоквашей поешь, что будет?
– Ну, это… Живот прихватит.
– Но сами по себе ни огурцы, ни простокваша для живота не вредны?
– Значит, дело в сочетании? То есть твои травы им могли и не подойти?
– Умница, Михайла, все верно понял. Я и для наших-то не сразу средство подобрала, а для них… Может, и успела бы, а могла и не успеть. Юля, собралась? Тогда ступайте.
Дом Настены стоял в низине среди деревьев на опушке прибрежного леса. Юлька провела Мишку через огород к плетню, сразу за которым начиналась настоящая чащоба. Но чащоба не простая: когда-то здесь прошел ветровал, и стволы поваленных деревьев громоздились один на другом, образуя непроходимый, на первый взгляд, завал, проросший вдобавок молодой порослью.
Однако оказалось, что пройти здесь можно. Юлька показала начало едва заметной тропинки, петлявшей среди бурелома столь причудливо, что невольно вспоминалась легенда о критском лабиринте. Пробираясь вслед за Юлькой, где в полный рост, а где и согнувшись, Мишка обратил внимание на то, что в некоторых местах деревья явно были повалены специально, чтобы еще больше усложнить и запутать дорогу. Да, к бегству тут подготовились очень тщательно.
Изрядно попетляв, ребята вышли к берегу реки.
– Вот, смотри, – Юлька указала на лежащий у самой воды здоровенный булыжник, – видишь вот этот камень?
– Ну, вижу.
– А на том берегу точно такой же?
– Тоже вижу.
– Если идти точно от этого камня к тому, то можно перейти реку так, что вода будет только чуть выше колен, но сворачивать никуда нельзя – и справа, и слева глубина.
– А знаешь, это же самый короткий путь к дедовой пасеке получается! – сообразил Мишка. – Перейти на тот берег, и вверх по течению. Меньше часа пути. Там маленькая избушка есть, а летом еще и большой дом поставили. Если что, там и отсидеться можно, правда, в большом доме печь не успели доделать, а в маленькой избушке даже зимой жить можно.
– Холодно уже, а то бы сходить, посмотреть.
– Хочешь я тебя перенесу?
– Нет, камни скользкие, еще свалимся, потом мокрыми домой бежать, – Юлька поежилась. – В другой раз. Давай здесь передохнем немного да обратно. Ты дорогу-то запомнил?
– А что там запоминать, с тропинки все равно никуда не свернуть.
– Это тебе так кажется потому, что ты за мной шел. Обратно первым пойдешь, тогда увидишь, что не все так просто. Если придется убегать, главное – оторваться от погони, чтобы из виду потеряли, тогда уже не догонят – заплутают.
– Пешком плохо уходить, все на себе тащить придется, – Мишка представил себе, как продирается через бурелом с поклажей. – Вот, если бы коня можно было провести…
– Можно и коня, только идти надо по-другому.
– Здорово вы к побегу подготовились.
– Хочешь жить – подготовишься, – Юлька пнула ногой веточку, сбросив ее в воду и некоторое время молча смотрела, как ее уносит течением в сторону Ратного. – Знаешь, почему мою мать в Ратное бабка привела?
– Почему?
– Всю родню, кроме них, в доме сожгли.
– Попы?
– Если бы, а то свои же. Кого-то там вылечить не смогли или еще чего-то не поделили, вот взяли и объявили материну мать колдуньей. Призвали попа – как же без него, а тот говорит: нельзя нечистой кровью землю поганить, надо место огнем очистить. Мать еще маленькая была, сумела в окошко протиснуться. Прибежала к бабке, та отдельно жила, а бабка беды дожидаться не стала, собралась и ушла.
Про воинское поселение она давно знала, а в таком месте лекарю всегда больше работы, чем в обычном селе. Вот и пришли в Ратное. Мать с тех пор всегда к побегу готова.
– Но к вам же здесь хорошо относятся, даже прежнего попа угомонили, когда он твою мать с бабкой выгнать хотел.
– Чего в детстве напугался, того всю жизнь бояться будешь. Наше лечение попам всегда поперек, они говорят, что болезнь – наказанье Божье, а мы, выходит, воле Божьей противимся.
Мишка смотрел на Юльку, слушал ее голос и поражался ее преображению. Вроде бы та же самая девчонка, которой только что исполнилось двенадцать лет, маленькая, худенькая, небогато одетая… Нет, не девчонка – маленькая женщина, видевшая на своем недолгом веку больше смертей, болезней и увечий, чем иной воин, и так же, как и воин, рисковавшая жизнью, исполняя свой долг. Маленькая женщина, постоянно готовая к несправедливости, к предательству тех, кого она и ее мать не однажды спасали и выхаживали. Спокойно рассуждающая о том, что однажды ее могут объявить вне закона и придется бежать, бросив все.
Ни обиды, ни злости – просто диагноз, только поставленный не одному человеку, не всему населению Ратного разом, а самой жизни, столкновению в умах двух традиций – христианской и языческой. Раздвоение личности – сегодня с благодарностью принимают помощь, всем селом, вскладчину, содержат лекарку с дочкой, а завтра пойдут с топорами громить «обиталище колдуний – прислужниц врага рода человеческого». Шизофрения, поразившая всю страну.
«Нет, не пойдут. Один раз дурного попа ратнинцы уже вразумили. Отец Михаил на лекарок народ поднимать не станет ни за что, наоборот, защитит, если понадобится. И все же, все же, все же…»
Почему-то захотелось еще и еще стоять возле речки, по которой плывут опавшие с прибрежных деревьев листья, и слушать Юлькин голос.
– Юль, расскажи о Макоши, что можно, конечно. Я в тайные знания не лезу, просто понять хочу: почему ты так Велесова ведовства испугалась? Что, разве Велес и Макошь враги?
– Нет, не враги, они просто разные, совсем разные. Он мужчина, она женщина, он в царстве мертвых хозяин, а Макошь – вся для жизни, он – скотий бог, а она – для людей. У них все разное, далекое друг от друга. Вот смотри: когда хлеб жнут, последние стебли на поле не срезают, а заплетают Велесову бороду, так? А для Макоши срезают, и ее сноп – не последний, а, наоборот, первый на поле. Все противоположное.
– А сама она?
– Макошь? Что такое кош, знаешь?
– Удачный жребий, выигрыш, прибыток. Отсюда и кошель, кошелка…
– Ну вот, а она – Макошь – мать удачного жребия, счастливой судьбы. Поэтому и сватаются, и сговариваются о свадьбе в Макошину неделю.
– Понятно, богини судьбы у всех народов есть: парки, норны, Фортуна. Некоторые из них пряхи, прядут нить человеческой жизни.
– Так и Макошь тоже пряха и вообще хозяйка всех женских работ, только для этого у нее второе имя есть – Пятница. Двенадцать пятниц в году, по одной в месяц – ее дни. А осенью – целая неделя, от последней пятницы октября, до первой пятницы ноября.
– Вот, значит, почему ее христиане в Параскеву Пятницу перекрестили.
– Про Параскеву не знаю, а с Велесом нам делить нечего, но и в дела друг друга встревать негоже. Нинея в чужой огород полезла, а я, дура, не поняла, обрадовалась, что новый способ лечения узнала, а это, оказывается, и не лечение вовсе.
– Ну, это ты зря! Главное ведь не инструмент, а то, как им пользуешься. Вот ножом, например, можно и хлеб резать, и человека убить. Нож сам по себе не плохой и не хороший, все от хозяина зависит.
– Нет, не так! – Юлька даже притопнула ногой, досадуя на Мишкино непонимание. – От чужого ведовства добра не будет. Нож, говоришь? А разве так не бывает, что нож в руке вывернется и хозяина поранит? Так и с чужим ведовством – лучше не связываться.
Информации для размышлений оказалось более чем достаточно.
«Три божества: Христос, Велес, Макошь. Три их адепта: отец Михаил, Нинея, Настена. Каким-то образом я оказался связанным со всеми тремя, все от меня чего-то ждут, на что-то рассчитывают. На что? Прямо об этом сказала только Настена, но она боится, боится всю жизнь, и от психологической травмы, полученной в детстве, ей, пожалуй, не избавиться до самой смерти. Вот тебе и лекарка – сапожник без сапог.
Плюс, на ней лежит ответственность за результат более чем векового эксперимента каких-то генетиков. Юлька – шестое поколение подопытных. Ей надо вырастить дочку, дождаться появления потомства седьмого поколения… Блин! Это что же? Юльку отдадут какому-то хмырю-производителю, чтобы “осеменил”? Да я их всех… Яйца вырву, мать вашу, генетики гребаные!
Спокойствие, сэр, только спокойствие! Сюжет-то банальнейший, аналогов – пруд пруди. Начиная со средневековых легенд о чистых девах, похищаемых злыми колдунами, исполненными самых гнусных намерений, и кончая тайными биологическими лабораториями ХХ века, где ученые мужи выращивают таких монстров, каких даже Иероним Босх в кошмарных снах увидеть не мог.
Рецепт противодействия тоже обкатан и отшлифован в литературе, кино и на театральных подмостках: тихонечко собираем информацию, обнаруживаем логово злодеев и шварцнеггерим означенных злодеев до полной потери дееспособности. После чего автоматически наступает хэппи энд:
Единственная мелочь, которая может помешать реализации ваших, сэр Майкл, благородных намерений, это получение в результате вышеописанного процесса повреждений организма, несовместимых с жизнью.
М-да, насчет “несовместимых с жизнью” сомневаться, пожалуй, не приходится. Такой эксперимент может проводить только ОРГАНИЗАЦИЯ, а существовать и действовать в течение столетия может лишь ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРЬЕЗНАЯ. И все же Настена боится… В одном ли детском испуге тут дело? Ладно, будем разбираться, а предварительных выводов два. Первый – время у меня еще есть, поскольку Юлька в детородный возраст, даже по местным меркам, войдет еще не скоро. Второй – задачи физического развития, повышения благосостояния и формирования команды остаются актуальными, без их эффективного решения мне тут ловить нечего.
Это – Настена, а остальные?
Нинея тоже боится. Во-первых, так же, как и у Настены, у нее имеются тяжелые воспоминания – убийство бабы Яги. Кстати, однажды она проговорилась и назвала ее теткой. Тематика страхов примерно та же, что и у Настены – христианское преследование. Но Нинея еще и в цейтноте. Она, как сказала Настена, не имеет права умереть, не воспитав преемницу. С Юлькой, похоже, облом – Юлькина мать Нинеины происки раскусила с первого захода.
Я-то ей зачем понадобился? Намекала на мою совместимость с Юлькой… Зачем ей это? Меня-то такой вариант как раз устраивать должен: если старуха хочет нас свести, то “генетики” автоматически становятся и Нинеиными противниками. Юльку, конечно, к ней подпускать нельзя, но получить от нее помощь можно попробовать. Во-первых, информационную поддержку, во-вторых, чем черт не шутит, помощь в решении трех стратегических задач. Значит, будем общаться, тем более, что сама приглашала.
Отец Михаил. Этот-то ничего не боится, проверено на практике. Но боятся его начальники: боятся языческого восстания, боятся отпадения от христианства князей, боятся константинопольского начальства. А сам отец Михаил просто хороший человек и симпатизирует мне искренне. Вербануть не пытался, но использовать при случае не постесняется, несмотря на дружеские отношения. Просто не посчитает это чем-то предосудительным, для него борьба с язычеством – естественное состояние.
Кто еще в отношении меня планы строит? Дед! Ну, с ним все понятно – хочет сделать из меня воина, да не простого, а с перспективой выдвижения на командирскую должность. Этот уже напрямую помогает мне в решении двух задач из трех. Дед тоже вроде бы ничего не боится, хотя это как посмотреть. Ратнинская сотня после последнего похода превратилась чуть ли не в полусотню. Еще два-три таких похода, и мы из серьезной военной силы превратимся в обычное крестьянское поселение, к нам начнут приезжать в полюдье княжеские тиуны – собирать дань. Старики в эпидемию почти все вымерли, но мужи-то должны понимать опасность? Что-то по этому поводу предпринимается? Нет информации, но понятно, что дедовы старания могут пропасть впустую – мне просто некем будет командовать.
Итак, имеются четыре субъекта управления, пытающиеся как-то на меня повлиять. Что их объединяет? Страх? Нет, пожалуй, если страх и есть, то у каждого свой, и между собой они не пересекаются, а зачастую даже противостоят друг другу. Например, страх Настены и страх начальства отца Михаила: она боится христиан, оно боится язычников.
На негативе анализ не выстраивается, попробуем на позитиве.
Дед хочет сделать из меня воина с задатками лидера. Допустим, это у него получается. Настениным намерениям это противоречит? Нет, влиятельный человек, имеющий за спиной реальную силу, для Юльки – прекрасная защита. Значит, намерения деда и Настены в общих чертах совпадают.
Теперь отец Михаил. Он пытается сделать из меня непоколебимого христианина, но не тупого фанатика, а человека мыслящего, в перспективе способного на проведение собственной линии. Какой? Вспоминайте, сэр, вспоминайте. Разговоров у нас было много, не могли его намерения в этих разговорах не промелькнуть.
Богословие и исторические экскурсы оставим пока в стороне, что-то он такое говорил о ратнинской сотне… Да! Нас князья боятся, опасаются, что мы полезем в политику! Стоп, сэр, а случайно ли тогда командовать нашими людьми поставили придурка, который и сам угробился, и сотню чуть не угробил? Как говорил товарищ Сталин? Нет человека, нет проблемы? В нашем случае: нет сотни – нет проблемы.
Но это – князья, а отец Михаил по другому ведомству служит. Ага! Церковь не всесильна, на князей давить не может. Допустим, ратнинская сотня переподчиняется Туровской епархии… Эдакий “Владычный полк”. Нет, этого мало, владычный полк все равно – часть княжеской рати, только содержит его Церковь на свои средства. А совсем независимым от светской власти может быть только… Мать честная! Рыцарский орден!
То-то мне Михаил все про европейский опыт толковал! Интересненько – православный рыцарский орден. В Европе более грозной военной силы, чем рыцарские ордена, нет и еще долго не появится. Профессиональные военные, связанные железной дисциплиной и встроенные в четкую иерархию, подчиняющиеся только духовной власти. Куда там до них дворянской вольнице! Да это же мечта митрополита! Попробуй какой-нибудь князек рыпнись – тут же полетят клочки по закоулочкам.
Только где взять кадры? Все военные профессионалы разобраны по княжеским и боярским дружинам. Значит, ядром, зародышем такого ордена могут стать ратнинцы! А потом, чем черт не шутит, крестовый поход на булгар, и вот вам, пожалуйста, Орденские земли, с уже готовой инфраструктурой и многочисленным населением. Тогда разговор с князьями другой пойдёт! И с Константинополем, между прочим, тоже. А через сто с небольшим лет придут татары, и если на Калке их встретит не сборище княжеских дружин без единого командования, а орденская конница… Однако, сэр, вариант интересный!
Ладно, это более или менее понятно. Но отец Михаил не доживет, и он сам это прекрасно понимает. Значит, есть в епископском аппарате люди, которые продолжат дело. Отец Михаил, по всей видимости, приставлен сюда следить не только за происками язычников, но и для наблюдения за ратнинским подразделением. Вероятно, есть план окончательного отрыва нашей сотни от князя и перехода ее под патронаж Церкви. Тогда провокация с придурком боярином, которого, конечно же, использовали втемную, несомненно, дело рук Церкви. “Князь вас, ребятушки, в распыл пустить задумал, а святые отцы под свою защиту берут”.
Тогда на смену отцу Михаилу пришлют человека из той же структуры – продолжать его работу, и ему меня передадут для дальнейшего воспитания в нужном духе. Святые отцы ждать умеют, потому что они тоже СЕРЬЕЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.
Что ж, получается, пока Церковь, в лице отца Михаила, так же заинтересована в выращивании из меня воина с задатками лидера.
Три из четырех рассматриваемых субъектов управления вынужденно действуют в унисон, до определенного момента, естественно. Когда дело дойдет до результата, вот тогда они… А ничего, скорее всего, и не будет. Дед возражать вряд ли станет, если доживет, дай ему Бог здоровья, а “генетикам” я буду уже не нужен. Зато я смогу ими заняться с весьма реальными шансами на успех: имея за спиной одну серьезную организацию, можно крепенько прижать другую.
Остается четвертый субъект – Нинея. Что ей нужно – непонятно, но уж никак не православный рыцарский орден. Именно попы в компании с воинами ее любимую Ягу и “зачистили”.
Итак, три субъекта управления намерены всерьез заняться воспитанием объекта по имени Мишка, и мне, как ни странно, и возразить вроде бы нечего, потому что их цели, по большому счету, совпадают с моими. Но, как говорят американцы, которых еще нет, “нельзя складывать все яйца в одну корзину”. А потому с Нинеей отношения будем поддерживать.
А так ли все благостно, сэр, как вы это все сейчас себе вообразили? Вас ведь в политику втягивают, а эта сфера деятельности ЗДЕСЬ ничуть не чище, чем ТАМ. Одна провокация с истреблением четырех десятков ратников чего стоит! Вы что, сэр, в ХХ веке дерьма из этой кормушки не наелись, опять на приключения потянуло? Когда это серьезная организация позволяла кому-то использовать себя в своих личных целях? А попробуете взбрыкнуть… Это дед Корней вас за строптивость только выпорол, а святые отцы мочканут и не почешутся, чужими руками, разумеется, да еще и крокодилову слезу над могилкой прольют, если дело того потребует.
Ну, мы тоже не в дровах найдены, кой чему обучены, кое-что умеем, и вообще: предупрежден, значит – вооружен. Praemonitus praemunitus, ежели по-научному».
Пока что на повестке дня стояла задача освоения самострела. Насчет прицельных приспособлений Мишка так ничего придумать и не смог; все, что приходило в голову, совершенно не годилось для ручной кузнечной работы. Выручили, в который раз, воспоминания из прошлой жизни. Когда-то в молодости у Михаила Ратникова был знакомый, имевший первый спортивный разряд по стрельбе из пистолета. Однажды, зайдя к нему домой, Михаил застал того тренирующимся. Упражнение копировало цирковой номер: парень балансировал на доске, положенной на свободно катающуюся по полу трубу, примерно десятидюймового диаметра, и наводил пистолет на висящую на стене мишень.
Этот-то опыт Мишка и решил перенять. За доской дело не стало, а роль трубы прекрасно исполнило гладко оструганное полено, положенное на еще две гладкие дощечки. Набив изрядное количество синяков и шишек, балансировать Мишка научился, но как было определить: правильно ли он наводит самострел на мишень? В конце концов, нашелся выход и из этого затруднения. К направляющим для болта Мишка прикрепил высохший стебель камыша длиной более двух метров, а на стену сарая подвесил на ниточках несколько бронзовых бубенчиков из ожерелья найденной в лесу покойницы.
Теперь можно было нарабатывать мышечные рефлексы. Балансируя на доске, Мишка тыкал кончиком камышинки в бубенчики так, чтобы они издавали звон. Постепенно тело научилось само направлять самострел в сторону цели, без участия разума. Мишка нарезал стрелок из камыша, налепил из воска наконечников и стал стрелять по бубенчикам со все большего и большего расстояния. Разумеется, баллистика у легких камышовых стрелок была иной, чем у настоящих болтов с металлическими наконечниками, но Мишка решил, что потом сможет приспособиться.
Наконец, занятия пришлось перенести на улицу, так как размеров «спортзала» перестало хватать. Остаток октября, весь ноябрь и часть декабря Мишка отдал освоению самострела и изготовлению болтов. Экзамен состоялся гораздо раньше, чем он думал, и сразу – по самому высшему счету: сани, в которых Мишка вместе с матерью ехали за сеном, напоролись на волчью свадьбу.