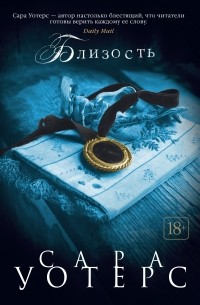Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
30 сентября 1874 г
В конечном счете материн запрет на рассказы о тюрьме продлился лишь несколько дней, ибо все до единого наши гости настойчиво просили меня поделиться впечатлениями о Миллбанке и его обитателях. Все жаждали леденящих кровь подробностей, однако, хотя мои воспоминания о тюрьме по-прежнему остаются очень яркими, не только они одни занимают мои мысли. Прежде всего мне не дает покоя обыденность самого того факта, что совсем рядом, всего в двух милях от Челси, то есть в пяти минутах езды на извозчике, находится громадное сумрачное, унылое здание, где заточены полторы тысячи мужчин и женщин, принуждаемых к молчанию и покорности. Я поймала себя на том, что постоянно вспоминаю о них за самыми обычными своими повседневными занятиями – когда пью чай, чтобы утолить жажду; когда беру книгу, чтобы почитать на досуге, или закутываюсь в шаль, чтобы согреться; когда произношу вслух какие-нибудь стихотворные строки, просто для того, чтобы насладиться звучанием изысканных слов. Я делаю вещи, которые делала без счету раз прежде, но теперь всякий раз вспоминаю об узниках, которые лишены всего этого.
Я гадаю, сколько из них, лежа ночами в холодных камерах, видят во сне фарфоровые чашки, книги и поэтические строки? Мне вот Миллбанк снился уже не единожды. Во сне представлялось, будто я заключенная в одной из камер и выравниваю на полке ряд предметов – миску, нож, вилку, Библию.
Но всех интересуют подробности иного толка. Если мое разовое посещение тюрьмы видится людям делом вполне понятным – своего рода развлечением, – то мое намерение вернуться туда еще раз, еще и еще изумляет до чрезвычайности. Одна только Хелен воспринимает меня серьезно.
Ах! – восклицают все остальные. – Да неужели вы и вправду думаете принять участие в этих женщинах? Они ведь воровки и… и даже хуже!
Гости недоуменно смотрят на меня, потом на мать. Как, спрашивают, она может допустить, чтобы я туда ходила? А мать, разумеется, отвечает:
– Маргарет всегда поступает, как считает нужным. Я сразу сказала: если ей требуется какое-то занятие, для нее и дома работа найдется. Вот, к примеру, письма ее отца – прекрасные письма – разобрать надобно…
Я сказала, что непременно займусь папиными письмами, в свое время, а сейчас мне хочется попробовать себя в другом деле – посмотреть хотя бы, как оно у меня пойдет. И при этих моих словах миссис Уоллес, подруга матери, пытливо в меня вгляделась. Знает ли она или догадывается ли о моей болезни и ее причинах? – подумала я, когда она промолвила следующее:
– Ну, ничто не исцеляет от уныния лучше, чем благотворительная работа, – так мне один врач говорил. Но тюрьма!.. Даже представить страшно, какой там воздух! Там же наверняка рассадник всяческой заразы!
Я опять вспомнила однообразные белые коридоры и голые, голые камеры. Напротив, возразила я, во всех помещениях там безупречная чистота и порядок. Тогда моя сестра спросила: если там чистота и порядок, зачем узницам вообще мое сочувствие? Миссис Уоллес улыбнулась. Она всегда любила Присциллу; считает ее даже красивее, чем Хелен.
– Возможно, моя дорогая, и ты задумаешься о подобных благотворительных визитах, когда выйдешь замуж за мистера Барклея. В Уорикшире есть тюрьмы? Только вообразить твое прелестное личико среди физиономий осужденных преступниц – познавательное зрелище было бы! На сей счет есть эпиграмма… мм… как же там? Маргарет, ты наверняка знаешь: что-то такое про женщин, рай и ад.
Она имела в виду строки:
Когда я произнесла их, миссис Уоллес воскликнула: точно! ну какая же я все-таки умная! Она бы и за тыщу лет не сумела прочесть все книги, которые я успела прочитать к своему возрасту.
Да, заметила мать, Теннисон сказал про женщин очень верно…
Вышеописанный разговор состоялся сегодня утром, когда миссис Уоллес завтракала с нами. После завтрака они с матерью повезли Прис на первый сеанс позирования для портрета, который заказал мистер Барклей. Он хочет, чтобы к их возвращению в Маришес из медового месяца портрет висел в гостиной. Для работы он нанял художника, имеющего студию в Кенсингтоне. Мать спросила, не хочу ли я поехать с ними. Если кому и интересно посмотреть картины, так это нашей Маргарет, сказала Прис, глядя в зеркало и проводя пальцем в перчатке по бровям. Для портрета она подчернила карандашом брови и надела голубое легкое платье, поверх которого накинула темный плащ. Мать сказала, что и серое сгодилось бы, поскольку платья все равно никто не увидит, кроме художника, мистера Корнуоллиса.
Я с ними не поехала. Я отправилась в Миллбанк, чтобы начать основательные посещения арестанток.
Тюрьма произвела на меня не такое жуткое впечатление, как я ожидала: в моих тревожных снах тюремные стены были выше и мрачнее, а коридоры – у́же, чем на самом деле. Мистер Шиллитоу советует приезжать раз в неделю, но в любой угодный мне день и час; он говорит, чтобы лучше понять жизнь арестанток, надо увидеть все части тюрьмы, где они так или иначе проводят время, и узнать все порядки, которым они подчинены. Если на прошлой неделе я отправилась в Миллбанк рано утром, то сегодня – значительно позже. К воротам я подъехала без четверти час, и меня снова сопроводили к суровой мисс Ридли. Она как раз собиралась пронаблюдать за раздачей тюремных обедов, и я пошла с ней.
Увиденное меня поразило. Вскоре после моего прибытия пробил колокол, по каковому сигналу надзирательница каждого этажа должна отобрать четырех из своих подопечных и проследовать с ними к тюремной кухне. Когда мы с мисс Ридли подошли туда, там уже собрались все они: мисс Маннинг, миссис Притти, миссис Джелф и двенадцать бледных арестанток, которые стояли, потупив глаза и сложив руки перед собой. В женском корпусе нет своей кухни, обеды доставляются из мужской части тюрьмы. Поскольку мужские и женские блоки строго обособлены друг от друга, женщинам приходится ждать, соблюдая полную тишину, когда мужчины заберут свою похлебку и покинут кухню. Все это объяснила мне мисс Ридли.
– Они не должны видеть мужчин, – сказала она. – Таковы правила.
Из-за кухонной двери, заложенной засовом, доносилось шарканье тяжелых башмаков и глухое бормотание – и мне вдруг представилось, что там не мужчины, а гоблины, с хвостами, рылами и косматыми бородами…
Когда шум стих, мисс Ридли стукнула в дверь связкой ключей:
– Путь свободен, мистер Лоуренс?
– Свободен! – последовал ответ.
Надзирательница отомкнула засов, и арестантки гуськом потянулись в кухню. Тюремный повар наблюдал за женщинами, скрестив руки на груди и посасывая щеки.
После холодного тесного коридора кухня показалась огромной и очень жаркой. В спертом воздухе висели не самые приятные запахи; песок на полу местами потемнел и комковато слипся от пролитой жидкости. На трех широких столах, сдвинутых посреди помещения, стояли бидоны с мясной похлебкой и подносы с маленькими хлебными буханками. По знаку мисс Ридли арестантки парами подступали к столам, брали одна бидон, другая поднос с хлебом для своего блока и выходили за дверь, пошатываясь от тяжести ноши.
Назад я пошла с подопечными мисс Маннинг. Все обитательницы первого этажа уже стояли наготове у своих решеток, с жестяными мисками в руках. Когда начали разливать порции, надзирательница возгласила короткую молитву – «Господи-благослови-пищу-нашу-и-сделай-нас-достойными-ее»» или что-то подобное, – но женщины к ней не присоединились. Все молчали и лишь вжимались лицами между прутьев решеток, пытаясь проследить за передвижением обедов вдоль блока. Получив свои порции, они сразу отходили к столам и бережливо посыпали еду солью из деревянных коробочек, взятых с полок.
Обед состоял из мясной похлебки с картошкой и шестиунцевой хлебной буханочки – все отвратительного качества: буханки из серой муки грубого помола, подгорелые, похожие на пережженные кирпичики; сваренная в кожуре картошка вся в черных пятнах; похлебка мутная, затянутая пленкой жира, которая утолщалась и становилась все белесее по мере остывания бидонов. Мясо бледное и слишком жилистое, чтобы поддаться тупому казенному ножу. Многие арестантки, я видела, сосредоточенно рвали его зубами, ровно дикари.
Однако почти все они брали свои порции весьма охотно; лишь некоторые уныло морщились при виде малоаппетитного варева, а иные с явным подозрением трогали мясо пальцем.
– Вам не нравится ваш обед? – спросила я женщину, которая так сделала.
Она ответила, что ей даже думать противно, в каких руках побывало мясо там, в мужской части тюрьмы.
– Они нарочно пачкают руки всякой гадостью, а потом суют пальцы в нашу похлебку смеха ради…
Женщина повторила это два или три раз подряд и больше не отвечала ни на какие мои вопросы. Я оставила ее бурчать над миской и вернулась к надзирательницам, стоявшим у входа в блок.
Мисс Ридли немного рассказала мне о питании арестанток, как оно разнообразится: по пятницам, к примеру, всегда подают рыбу, поскольку среди женщин много католичек, а по воскресеньям – пудинг на сале. «А есть ли здесь у вас еврейки?» – спросила я, и она ответила, что в Миллбанке всегда сидит несколько евреек, которые доставляют «много головной боли» своими требованиями к пище. Она и в других тюрьмах встречала таких вот притязательных особ иудейской веры.
– Впрочем, со временем все они избавляются от этой чепухи, – сказала надзирательница. – Во всяком случае – в моем отделении.
Когда я описываю мисс Ридли брату и Хелен, они улыбаются.
– Да ну, ты преувеличиваешь, Маргарет! – как-то усомнилась Хелен, но Стивен покачал головой и сказал, что часто видит в суде полицейских матрон, похожих на мисс Ридли.
– Жестокая порода, – сказал он. – Они рождаются деспотами. Рождаются с цепью на поясе. Мамаши дают им сосать железные ключи, чтоб зубы поскорее прорезались.
Брат оскалился, показывая зубы, – они у него ровные, как и у Присциллы, а вот у меня кривоватые. Хелен звонко рассмеялась.
– Ну, насчет мисс Ридли я не уверена, – ответила я. – Думаю, она не прирожденный деспот, а просто изо всех сил старается соответствовать своей роли. Думаю, у нее есть секретный альбом с вырезками из «Ньюгейтского справочника». Да, наверняка есть. Она наклеила на него название «Знаменитые поборники тюремной дисциплины» и темными миллбанкскими ночами вздыхает над ним, как дочь священника – над модным журналом.
Хелен рассмеялась еще громче, даже слезы на глазах выступили, и от влаги ресницы стали почти черными.
Сегодня, вспомнив смех Хелен, я вдруг вообразила, как посмотрела бы на меня мисс Ридли, если бы узнала, что я болтаю про нее всякое, чтобы развеселить свою невестку, – и при одной этой мысли меня бросило в дрожь. Ибо в мисс Ридли, когда она при исполнении своих служебных обязанностей, нет решительно ничего комичного.
С другой стороны, жизнь тюремных матрон (даже мисс Ридли и мисс Хэксби), должно быть, весьма безрадостна. Ведь практически все свое время они проводят в стенах тюрьмы, словно и сами заточены здесь. Работа у них, по словам мисс Маннинг, ничуть не легче, чем у судомоек каких-нибудь. Конечно, в Миллбанке у всех надзирательниц есть личные комнаты для отдыха, но обычно дневные дежурства настолько изматывают, что после смены ни до чего, только бы рухнуть на кровать и забыться сном. Питаются они той же пищей, что и заключенные, а обязанности у них ну очень тяжелые, порой даже опасные. «Вон, попросите мисс Крейвен, чтоб показала вам руку, – сказала мисс Маннинг. – У нее синячище от локтя до запястья: одна девка ударила на прошлой неделе, в прачечной».
Сама мисс Крейвен, когда позже я с ней познакомилась, показалась мне почти такой же грубой, как и женщины, которых она сторожила. «Да они все что крысы бешеные, – сказала она. – Глаза б не глядели, честное слово». Когда я спросила, не подумывает ли она найти другое место, раз здесь работа такая тяжелая, мисс Крейвен с горечью ответила: «Да на что еще я гожусь, после одиннадцати-то лет в Миллбанке?» Нет, ходить ей по тюремным коридорам до самого смертного часа.
Одна лишь миссис Джелф, надзирательница верхних блоков, кажется мне по-настоящему доброй, даже мягкой. Выглядит она страшно бледной и страшно усталой, на вид ей можно дать и двадцать пять лет, и сорок. Но на тюремную жизнь она ничуть не жалуется, разве только говорит, что многие из историй, которые ей приходится выслушивать, поистине трагичны.
Я поднялась на ее этаж сразу после обеденного часа, когда колокольный звон возвестил, что арестанткам пора возвращаться к своей работе.
– Сегодня я впервые здесь в роли настоящей добровольной посетительницы, миссис Джелф, и очень надеюсь на вашу помощь, поскольку изрядно волнуюсь, – сказала я.
Дома, на Чейн-уок, я бы нипочем в этом не призналась.
– Счастлива вам услужить, – живо откликнулась миссис Джелф и тотчас повела меня к арестантке, которая, заверила она, премного обрадуется моему посещению.
Ею оказалась пожилая женщина, самая старшая по возрасту во всем корпусе: заключенная высшего, «звездочного» разряда по имени Эллен Пауэр. Когда я вошла в камеру, она быстро встала, уступая мне стул. Разумеется, я сказала: «нет-нет, сидите», но она не пожелала сидеть в моем присутствии, и в конечном счете мы обе остались на ногах. Миссис Джелф внимательно на нас посмотрела, потом кивнула и отступила к двери. «Я должна запереть решетку, мисс, – с улыбкой сообщила она. – Крикните меня, когда захотите выйти». И пояснила, что надзирательницы, где бы ни находились на своем этаже, слышат громкий голос из любой камеры. Она вышла и затворила за собой решетку; ключ со скрежетом повернулся в замке. Я вдруг осознала, что именно миссис Джелф оберегала меня от опасностей в моих страшных снах о Миллбанке. Когда я наконец перевела взгляд на арестантку, она улыбалась.
Пауэр просидела в тюрьме уже три года, срок истекает через три месяца; осуждена была за содержание дома терпимости. Сообщив мне последнее, она возмущенно потрясла головой. «Тоже мне, дом называется! Всего-то гостиная одна. Ну заходили порой парни с девчонками, сидели себе, целовались-миловались, вот и все. Внученька моя родная все там хлопотала: чтоб чистенько было, чтоб цветочки завсегда, свежие цветочки в вазе. Дом терпимости, ага! Молодым парням нужно ведь место, куда своих подружек привести, верно? Не целоваться же прямо посреди улицы? А если кто и совал мне шиллинг перед уходом, за доброту мою, за цветочки свежие, – в чем мое преступление, спрашивается?»
С ее слов выходило, что она не совершала ничего противозаконного. Однако, памятуя предостережения надзирательниц, я уклончиво ответила, что не могу судить о вынесенном ей приговоре. Пауэр махнула рукой с уродливыми шишковатыми костяшками: да где уж нам судить, не нашего женского ума дело.
Я провела с ней полчаса. Несколько раз она снова пускалась объяснять всякие тонкости сводничества, но в конце концов мне удалось вывести разговор на менее сомнительные темы. Вспомнив невзрачную Сюзанну Пиллинг, с которой я беседовала в блоке мисс Маннинг, я поинтересовалась у Пауэр, как ей здешние порядки и одежда.
Она на минуту задумалась, потом потрясла головой:
– За порядки ничего не скажу, поскольку в других тюрьмах не сидела; но сдается мне, они тут довольно строгие – так и запишите, – (я взяла с собой блокнот), – мне не страшно, если кто прочтет. А вот одежа, скажу прямо, дрянная.
Она пожаловалась, мол, как сдашь вещи в прачечную, так обратно свой прежний комплект нипочем не получишь.
– …и бывает, из прачечной одежа возвращается не отмытая толком, вся в пятнах, мисс, а ты давай носи или сиди мерзни голышом. Опять-таки фланельное исподнее – грубое, жесткое, колючее и такое стираное-перестираное, что уже и на фланель давно не похоже, название одно – ни капельки не греет, а только колется, чесотка от него нестерпимая. Про башмаки ничего плохого не скажу, но вот без корсетов, извиняюсь за такие подробности, женщинам помоложе тяжеленько приходится. Старухе навроде меня корсет не особо надобен, но вот молодым девицам, мисс, без него большое неудобство.
Она продолжала в таком же духе и, кажется, получала истинное удовольствие от разговора. Однако при этом речь у нее была несколько затрудненная, с паузами и запинками. Пауэр иногда надолго умолкала, часто облизывала или вытирала ладонью губы, поминутно откашливалась. Сначала я решила, что она делает так из предупредительности ко мне, поскольку я время от времени записывала за ней в блокнот, обычным письмом, не стенографическим. Но с другой стороны, паузы возникали в самых неожиданных местах, без всякого повода с моей стороны, и я вновь вспомнила Сюзанну Пиллинг, которая тоже заикалась, мямлила, непрестанно откашливалась и с заметным трудом подбирала даже самые простые слова, что я отнесла за счет ее туповатости… Когда я попрощалась и двинулась к выходу, а Пауэр опять запнулась на обычном «благослови вас Господь», она приложила к щеке узловатую подагрическую руку и горестно покачала головой.
– Небось думаете, я совсем дурная старуха, – вздохнула она. – Небось думаете, я и имени-то своего толком не выговорю. Мистер Пауэр частенько клял мой язык – говорил, он проворнее гончей, мчащей по заячьему следу. Сейчас он позабавился бы, муженек мой, на меня глядючи… верно, мисс? Долгими часами напролет сидишь одна, не с кем словом перемолвиться. Иной раз гадаешь, не отсох ли уже язык, не отвалился ли. Иной раз и впрямь боишься имя свое забыть.
Она улыбнулась, но в глазах у нее заблестели слезы, и вид сделался совсем несчастный. После некоторой заминки я сказала, мол, нет, это я глупая, что не догадалась, насколько тяжелы вынужденное молчание и одиночество.
– Мне-то самой постоянно кажется, будто все вокруг болтают без умолку, – сказала я. – Всегда радуюсь, когда можно наконец уединиться в своей комнате и помолчать.
Пауэр тотчас сказала, что, коли я люблю помолчать, мне надо наведываться к ней почаще. Я ответила, что непременно приду еще, если ей хочется, и она сможет говорить сколько душе угодно. Пауэр опять улыбнулась и повторила: «Благослови вас Господь».
– Очень буду вас ждать, мисс! – сказала она, когда миссис Джелф отперла решетку. – Надеюсь, вы наведаетесь вскорости!
Затем я посетила еще одну арестантку, которую тоже выбрала для меня надзирательница.
– Несчастнейшее создание, – негромко промолвила она. – Очень боюсь за нее: больно уж тяжело переносит заключение.
Девушка выглядела – краше в гроб кладут и вся задрожала, когда я вошла в камеру. Ее зовут Мэри Энн Кук, осуждена на семь лет за убийство своего ребенка. Ей еще нет двадцати, в тюрьму попала в шестнадцать. Возможно, когда-то она была прехорошенькая, но сейчас такая бледная и такая тощая, что в ней и девушку-то не признать: как будто белые тюремные стены высосали из нее все жизненные силы и краски, превратив бедняжку в жалкую тень себя прежней. Когда я попросила Кук рассказать свою историю, она заговорила таким вялым, бесцветным голосом, словно уже столько раз повторяла одно и то же – надзирательницам, добровольным посетительницам или себе самой, – что описываемые события превратились в некую отдельную от нее историю, гораздо более реальную, чем воспоминания, но ровным счетом ничего не значащую. Мне нестерпимо захотелось сказать ей, что я хорошо понимаю, как твое прошлое становится подобной вот историей, будто бы не имеющей к тебе отношения.
Кук рассказала, что родилась в католической семье; мать умерла, отец женился вторично, и тогда ее с сестрой отдали в услужение в один очень богатый дом. Хозяйка, хозяин и три их дочери были к ним очень добры, «а вот сын, мисс, добрым не был. Мальчишкой он просто озоровал над нами – подслушивал под дверью, когда мы спать ложились, и врывался в комнату, чтоб напугать. Но нас такие проказы особо не задевали; а вскоре его отослали в школу, и дома он почти не появлялся. Однако через пару лет он вернулся – совсем другим, не узнать: ростом почти с отца вымахал, и нахальства в нем прибавилось…». По словам Кук, молодой человек настойчиво склонял ее к тайным встречам, предлагал стать любовницей, но она отказалась. А потом узнала, что он соблазняет деньгами ее сестру, и тогда, «чтобы спасти младшую сестрицу», она уступила домогательствам, ну и в скором времени затяжелела. Место ей пришлось оставить, а сестра в конечном счете от нее отвернулась ради молодого хозяина. Она отправилась к брату, но невестка ее не приняла, и бедняжку определили в дом милосердия. «Родилась девочка, но я ее ни капельки не любила. Уж так на него похожа была! Я желала ей смерти». Кук отнесла младенца в церковь, чтобы покрестить; а когда священник отказался, она сама покрестила – «наша вера допускает такое», коротко пояснила узница. Она наняла комнату под видом одинокой девушки, а ребенка спрятала: плотно завернула с головой в шаль, чтоб не орал. Но ребенок задохся под шалью и умер. Тельце обнаружила домовладелица. Кук положила его за оконную занавеску, где оно пролежало неделю.
– Да, я желала ей смерти, – повторила Кук. – Но я не убивала – и сильно опечалилась, когда она умерла. Дознаватели разыскали священника, к которому я ходила, и заставили дать в суде показания против меня. И тогда дело стало выглядеть так, будто я с самого начала замышляла умертвить ребенка…
– Какая несчастная судьба, – сказала я надзирательнице, выпустившей меня из камеры.
Это была не миссис Джелф (она покинула блок, чтобы сопроводить одну из арестанток в кабинет мисс Хэксби), а мисс Крейвен, матрона с неприятным грубым лицом и синяком на руке. Подойдя к решетке на мой зов, она устремила на Кук тяжелый взгляд, и девушка тотчас покорно склонилась над своим шитьем.
– Можно, конечно, сказать, что и несчастная, – отрывисто промолвила Крейвен, когда мы с ней зашагали по коридору. Только преступницы вроде Кук, которые собственных младенцев жизни лишают… ну, она лично никогда таких не жалеет.
Я сказала, мол, Кук выглядит очень молоденькой, но мисс Хэксби говорила, что здесь иногда сидят совсем юные девочки, почти дети.
Крейвен кивнула. Да, бывают и малолетки – вы бы только посмотрели на них! Вот была как-то одна, которая первые две недели каждую ночь рыдала по своей кукле. Просто невмоготу слышать было.
– Однако сущая чертовка, когда в настроении! – рассмеялась Крейвен. – А уж какой язык помойный! Таких грязных словечек, какие знала эта малолетка, нигде не услышишь, даже в мужских блоках.
Она продолжала довольно похихикивать, и я отвела от нее глаза. Мы прошли уже почти весь коридор и приближались к арке, ведущей к входу в одну из башен. За аркой виднелся край темной решетки, которую я тотчас узнала: именно подле нее я стояла на прошлой неделе, наблюдая за девушкой с фиалкой.
Я сбавила шаг и заговорила самым обыденным тоном. Там, в первой камере по следующему коридору, сидит одна узница. Такая белокурая девушка, очень молодая, очень красивая. Что мисс Крейвен о ней знает?
Когда надзирательница говорила о Кук, лицо ее мрачно супилось; и теперь на нем появилась ровно такая же недовольная гримаса.
– Селина Доус, – ответила мисс Крейвен. – Странная девица. В глаза не смотрит, вся в своих мыслях – больше ничего сказать не могу. Слывет самой покладистой заключенной во всей тюрьме. Ни одного нарекания за все время. Темная душа – таково мое мнение.
– Темная?
– Как пучина океанская.
Я кивнула, вспомнив слова миссис Джелф. Вероятно, Доус довольно высокого происхождения?
Мисс Крейвен расхохоталась:
– Ну, повадки-то у нее в точности как у знатной дамы какой-нибудь! Все матроны ее недолюбливают – кроме миссис Джелф, но миссис Джелф у нас женщина мягкосердечная, для любого найдет доброе слово. Да и сами арестантки сторонятся этой Доус. У нас тут все быстро «снюхиваются», как выражаются наши поднадзорные, но с ней так никто и не сошелся. Побаиваются, видимо. Кто-то проведал, что писали о ней газеты, и пустил историю гулять по тюрьме – слухи-то с воли доходят, как ни препятствуй! Ну и потом, по ночам в блоках… женщинам всякая чушь мерещится. Кто-нибудь нет-нет да и завизжит вдруг: мол, из камеры Доус доносятся странные звуки…
– Странные звуки?
– Призраки, мисс. Девица-то ведь этот… как там называется… спиритический медиум, что ли?
Я остановилась и воззрилась на надзирательницу с изумлением, смешанным с некоторым испугом.
– Спиритический медиум! – повторила я. – Спиритический медиум – и здесь, в тюрьме? Какое же преступление она совершила? За что осуждена?
Мисс Крейвен пожала плечами. Вроде бы какая-то почтенная дама от нее пострадала и еще барышня одна; кто-то из них впоследствии помер. Но характер причиненного вреда был такой, что вменить убийство Доус не смогли, только нападение. Разумеется, иные утверждают, что обвинение против нее – полная чушь, сфабрикованная каверзным юристом…
– Но здесь, в Миллбанке, – фыркнув, добавила она, – частенько слышишь подобное.
Да, наверное, сказала я. Мы двинулись дальше по коридору, свернули за угол – и я увидела ту самую девушку, Доус.
Как и в прошлый раз, она сидела в солнечных лучах, но теперь с открытыми глазами, устремленными на спутанный моток пряжи, из которого она тянула нить.
Я взглянула на мисс Крейвен:
– Нельзя ли мне?..
Когда я вступила в камеру, солнечный свет стал ярче, и после сумрака однообразного коридора белые стены показались такими ослепительными, что я заслонила глаза рукой и прищурилась. Лишь через несколько секунд я осознала, что при моем появлении Доус не встала и не сделала книксен, как все прочие женщины; не отложила работу, не улыбнулась и не промолвила ни слова. А просто подняла глаза и посмотрела на меня со своего рода снисходительным любопытством, продолжая медленно перебирать пальцами нить грубой пряжи, словно молитвенные четки.
– Кажется, вас зовут Доус? – сказала я, когда мисс Крейвен заперла решетку и удалилась. – Как поживаете, Доус?
Девушка не ответила, но продолжала неподвижно смотреть. Черты у нее были не такими правильными, как мне показалось в прошлый раз: бровям и губам – чуть скошенным – недоставало симметрии. Поскольку платья у всех арестанток одинаково безликие, а волосы убраны под чепец, невольно обращаешь пристальное внимание на лица. На лица и руки. У Доус руки изящные, но огрубелые и красные. Ногти обломаны, и на них белые пятнышки.
Она по-прежнему молчала. При виде этой ее застылой позы, этого ее немигающего взгляда я на миг подумала, уж не придурковатая ли она просто-напросто, ну или глухонемая, может. Я выразила надежду, что ей будет приятно немного поговорить со мной; сказала, что хотела бы подружиться со всеми женщинами в Миллбанке…
Собственный голос казался мне очень громким. Я живо представила, как он разносится по всему тихому этажу, как узницы отрываются от работы, поднимают голову и прислушиваются – вероятно, презрительно усмехаясь.
Я повернулась к окну и указала на солнечные лучи, что столь ярко отражались от белого чепца девушки и кривоватой фетровой звезды у нее на рукаве.
– Любите греться на солнце? – спросила я.
– Надеюсь, мне можно и работать, и солнышком наслаждаться одновременно, – наконец-то отозвалась Доус. – Надеюсь, я вправе получить свою кроху тепла и света? Видит бог, как здесь не хватает этого!
Она выпалила это с такой горячностью, что я растерянно заморгала, на минуту смешавшись. Я огляделась вокруг. Белые стены теперь уже не слепили; пятно света, в котором сидела девушка, сокращалось прямо на глазах: в камере становилось все сумрачнее, все прохладнее. Ну да, солнце в своем неумолимом пути медленно уходило за башни Миллбанка. А узнице, безмолвной и бездвижной, что гномон, остается лишь наблюдать, как оно уходит из камеры, с каждым днем все раньше и раньше по мере течения очередного года. Должно быть, добрая половина тюрьмы с января по декабрь погружена во мрак, как обратная сторона луны.
От этой мысли мне стало еще более неловко стоять так вот перед Доус, продолжавшей тянуть нить из клубка пряжи. Я подошла к свернутой подвесной койке и положила на нее ладонь. Если я трогаю койку просто из любопытства, сказала девушка, то мне лучше обратить свой интерес на какие-нибудь другие вещи – миску, например, или кружку. Здесь положено держать постельные принадлежности аккуратно свернутыми, и ей не хотелось бы заново все сворачивать после моего ухода.
Я отдернула руку:
– Конечно-конечно. Извините.
Доус опустила глаза на свои деревянные спицы. Я спросила, над чем она трудится, и она равнодушно показала мне желтовато-серое вязанье:
– Чулки для солдат.
Выговор у Доус правильный. И когда она спотыкалась на каком-нибудь слове (а заминки в речи у нее случались, хотя и далеко не так часто, как у Эллен Пауэр или Кук), я даже слегка вздрагивала.
– Насколько я поняла, вы здесь уже год? – спросила я затем. – Знаете, вы можете отвлечься от работы, пока разговариваете со мной: мисс Хэксби разрешила. – (Доус опустила вязанье, но продолжала теребить пальцами пряжу.) – Значит, вы здесь уже год. И какой вам показалась жизнь в Миллбанке?
– Какой? – Девушка усмехнулась, отчего чуть скошенный рот скосился сильнее. – А какой бы она вам показалась, как полагаете?
Вопрос застал меня врасплох – он и сейчас, когда я о нем думаю, меня обескураживает! – и я на минуту замялась. Потом вспомнила наш с мисс Хэксби разговор и ответила, что здешняя жизнь, безусловно, показалась бы мне весьма тяжелой, но при этом я бы ясно сознавала, что справедливо наказана за дурной поступок. И наверное, даже радовалась бы возможности проводить столько времени в одиночестве, предаваясь раскаянию, строя планы на будущее.
– Планы?
– Как стать лучше.
Доус отвернулась к окну и ничего не сказала – и слава богу, ибо мои слова даже мне самой показались фальшивыми. Сзади из-под чепца выбивались бледно-золотые завитки – волосы у нее, подумала я, даже светлее, чем у Хелен, и наверняка выглядели бы очень красиво, если их тщательно вымыть и уложить. Солнечное пятно, в котором сидела девушка, вновь стало ярче, но продолжало неумолимо уползать прочь – так одеяло мало-помалу сползает с человека, спящего тревожным сном. Она подняла голову, подставляя лицо последнему теплому лучу.
– Не хотите немного поговорить со мной? – спросила я. – Возможно, это принесет вам некоторое утешение.
Доус молчала, пока полоска солнечного света не исчезла полностью. Потом повернулась ко мне, несколько долгих мгновений пристально на меня смотрела и наконец сказала, что не нуждается в моих утешениях. У нее и без меня «есть утешители». Да и вообще, с чего бы ей что-то мне рассказывать? Разве я стала бы рассказывать ей о своей жизни?
Она пыталась говорить твердым голосом, но безуспешно: голос предательски задрожал, выдавая в ней не дерзость, а обычную браваду, за которой крылось самое настоящее отчаяние. Скажи я тебе сейчас несколько ласковых, сочувственных слов, и ты расплачешься, подумала я. Но мне совсем не хотелось, чтобы она передо мной плакала, а потому я придала своему голосу беззаботную живость. Да, сказала я, есть вещи, которые мисс Хэксби возбранила мне обсуждать с заключенными; однако, насколько я поняла, моя скромная персона к оным не относится. Ради бога, я охотно расскажу про себя все, что ей интересно знать…
Я назвала свое имя. Сообщила, что живу в Челси, на Чейн-уок. Что у меня есть женатый брат и сестра, которая скоро выйдет замуж, а сама я не замужем. Что я плохо сплю, часами кряду читаю или пишу, подолгу стою у окна, глядя на реку.
Я притворно задумалась:
– Так… что же еще? Да в общем-то, и все, пожалуй. Немного, конечно…
Пока я говорила, Доус не сводила с меня внимательного, чуть прищуренного взгляда. Теперь наконец она отвела глаза в сторону и улыбнулась. Зубы у нее ровные и очень белые – «как пастернак», по выражению Микеланджело, – но губы шершавые, покусанные.
Далее она заговорила более естественным тоном: спросила, давно ли я стала добровольной посетительницей и почему вообще. Зачем мне приезжать в Миллбанк, когда можно сидеть себе спокойненько в своем роскошном доме в Челси?..
– То есть вы полагаете, что дамам следует проводить дни в праздности? – спросила я.
Да, на моем месте она бы так и делала, последовал ответ.
– О нет, – сказала я. – На моем месте вы бы точно так не делали.
Я невольно повысила голос, и Доус удивленно моргнула. Она наконец-то напрочь забыла о своем вязанье и смотрела на меня во все глаза. Мне даже захотелось, чтобы она отвернулась, ибо от этого пристального, неподвижного взгляда становилось не по себе.
Дело в том, пояснила я, что праздность не для меня. Я провела в праздности последние два года – и от нее «сделалась совсем больной».
– Вот мистер Шиллитоу и посоветовал наведываться сюда, – сказала я. – Он старый друг моего отца. Как-то приехал к нам с визитом и заговорил о Миллбанке. Рассказал о здешних порядках, о добровольных посетительницах, ну я и подумала…
Что же именно я подумала? Сейчас, под взглядом Доус, я и сама толком не знала. Я отвела глаза в сторону, но все равно ощущала на себе этот пронзительный взгляд. Немного погодя девушка промолвила совершенно спокойным тоном:
– Вы явились в Миллбанк не ради других, а ради себя самой: в надежде исцелиться от уныния, увидев женщин куда более несчастных, чем вы.
Я в точности помню эти слова: при всей своей резкости они были настолько близки к истине, что щеки мои вспыхнули от стыда.
– Ну так смотрите на меня, – все так же спокойно продолжала Доус, – я достаточно несчастна. Да пусть на меня весь мир смотрит: это часть моего наказания.
Она горделиво выпрямилась. Я неловко пробормотала, что, мол, надеюсь, мои визиты все же несколько смягчат для нее суровость наказания, а не усугубят… Девушка повторила, что не нуждается в моих утешениях. У нее много друзей, которые приходят к ней с утешением, когда таковое требуется.
Я недоуменно взглянула на нее:
– У вас есть друзья? Здесь, в Миллбанке?
Доус закрыла глаза и выразительно поводила ладонью перед своим лбом:
– Все мои друзья – здесь, мисс Прайер.
Я уже и забыла! А теперь, вспомнив, разом похолодела. С минуту Доус сидела с плотно закрытыми глазами, и только когда она наконец их открыла, я сказала:
– Ну да, вы же медиум, мне мисс Крейвен говорила. – (Доус чуть наклонила голову к плечу.) – Значит, друзья, вас навещающие… это духи? – (Она кивнула.) – И они к вам приходят… когда?
Духи всегда окружают нас, ответила она.
– Всегда? – Кажется, я улыбнулась. – Даже сейчас? Даже здесь?
Даже сейчас. Даже здесь. Они просто «предпочитают не показываться либо же не обладают достаточной силой…». Оглядевшись вокруг, я вспомнила неудачливую самоубийцу из блока миссис Притти – Джейн Сэмсон, окруженную бурым роем пляшущих пылинок. То есть Доус полагает, что в камере у нее… ну, вот таким же образом кишат духи?
– Но все-таки ваши друзья находят силу, когда надо?
Они черпают силу из нее, последовал ответ.
– И вы их видите, да? Совершенно отчетливо?
Порой они только говорят.
– Порой я только слышу слова, вот здесь. – Она приложила ладонь ко лбу.
– Вероятно, они посещают вас днем, когда вы работаете? – спросила я.
Она помотала головой. Нет, они приходят и ночью, когда все спят.
– Они к вам добры?
– Очень добры, – кивнула Доус. – Подарки разные приносят.
– Вот как? – Тут я улыбнулась, точно помню. – Подарки? Духовного свойства?
– Да всякие. – Она пожала плечами. – И духовные, и земные…
Земные? Какие же, например?
– Ну там цветок какой-нибудь, – сказала Доус. – Иногда роза. Иногда фиалка…
Пока она говорила, где-то в коридоре грохнула решетка, и я испуганно подскочила, но девушка даже бровью не повела – она явно отметила мою сконфуженную улыбку, но продолжала говорить ровным, почти небрежным тоном, словно совсем не беспокоясь, что́ я думаю о подобных заявлениях. Однако последним своим словом она будто булавку в меня вонзила – я моргнула, и лицо мое застыло. Разве могла я признаться, что тайком подглядывала за ней? Что видела, как она подносит к губам фиалку? Поначалу я тщетно ломала голову, откуда же в тюрьме взялся цветок, но в последние несколько дней напрочь о нем забыла. Я отвела глаза в сторону и беспомощно пробормотала:
– Ну что ж… – Потом еще раз: – Ну что ж… – И наконец с противной, наигранной веселостью договорила: – Будем надеяться, мисс Хэксби не прознает о ваших визитерах! Она наверняка сочтет ваше пребывание здесь недостаточным наказанием, если обнаружит, что вы принимаете гостей…
– Недостаточным? – тихо повторила Доус.
Неужели я полагаю, будто что-то может облегчить для нее тяготы наказания? Неужели так полагаю я, живущая благополучной жизнью, но уже знающая, в каких условиях они содержатся, как изнуряются в работе, во что одеваются и чем питаются?
– Когда тебе никуда не спрятаться от взгляда тюремщицы, цепкого как репей и такого же колючего. Когда у тебя вечная нужда в воде и мыле. Когда забываешь слова, самые обычные слова, ибо существование твое столь скудно и однообразно, что тебе требуется знать лишь сотню простых слов и коротких грубых фраз: камень, похлебка, гребень, Библия, иголка, арестантка, а ну стоять, а ну пошла, а ну пошевеливайся! Когда ночами лежишь без сна – не так, как лежите без сна вы, в своей теплой постели около камина, в своем богатом доме, где поблизости всегда родня и слуги. А когда кости твои ломит от холода; когда ты слышишь, как в камере двумя этажами ниже пронзительно кричит женщина, которую мучают кошмары или алкогольный бред, либо же истошно рыдает новенькая, которая все еще не в силах поверить, что ее остригли, посадили в камеру и заперли на замок!
Неужели я полагаю, будто что-то может умерить подобную му́ку? Неужели я считаю наказание недостаточным потому лишь, что иногда к ней является дух – и прикасается губами к ее губам, но тает и улетучивается еще до поцелуя, оставляя ее во мраке чернее прежнего?
Слова эти и сейчас ясно звучат в моей памяти; я будто въявь слышу голос Доус, их произносящий, – лихорадочный, сбивчивый шепот, – ибо из страха перед надзирательницей она говорила тихо, с трудом подавляя душевное волнение, чтобы только не сорваться на крик, чтобы только никто не услышал, кроме меня.
Теперь я уже не улыбалась. И ответить мне было нечего. Кажется, я отвернулась от девушки и уставилась сквозь решетку на гладкую голую беленую стену.
Потом я услышала шаги позади. Доус встала со стула и подошла ко мне. Она подняла руку, словно собираясь дотронуться до моего плеча. Но я быстро отодвинулась от нее, подступив ближе к решетке, и она уронила руку.
Я совсем не ожидала, что мой визит ее расстроит, сказала я. Видимо, другие женщины, с которыми я здесь разговаривала, менее чувствительны, чем она, или более закалены прежней жизнью на воле.
– Простите меня, – промолвила она.
– Вам решительно не за что просить прощения, – сказала я. (Было бы просто нелепо, если бы она и вправду испытывала вину передо мной!) – Но если вам угодно, чтобы я ушла…
Доус не ответила, и я продолжала неподвижно смотреть в коридор, где постепенно сгущался сумрак, пока наконец не поняла, что больше она ничего не скажет. Тогда я взялась за прутья решетки и крикнула надзирательницу.
На зов явилась миссис Джелф. Она внимательно посмотрела на меня, потом перевела взгляд за мою спину. Я услышала, как арестантка садится, а когда обернулась – она уже снова тянула нить из своего мотка пряжи.
– До свидания, – сказала я.
Она не ответила. Но когда надзирательница стала запирать решетку, Доус подняла голову, и ее тонкое горло задергалось.
– Мисс Прайер! – позвала она и коротко взглянула на миссис Джелф. А затем неловко пробормотала: – Мы все здесь плохо спим ночами. Вы уж вспоминайте о нас, пожалуйста, в своем ночном бодрствовании.
Ее алебастрово-белые щеки порозовели.
– Непременно, Доус, – сказала я. – Непременно.
Надзирательница коснулась моего локтя:
– Угодно ли вам пройти дальше по блоку, мисс? Я могу проводить вас к Нэш, или Хеймер, или Чаплин – нашей отравительнице…
Но больше я никого не посетила. Я покинула блок, и меня повели через мужскую часть тюрьмы. Там я случайно встретила мистера Шиллитоу.
– Ну и как вам тут у нас? – спросил он.
Я ответила, что матроны весьма любезны, а иные из арестанток, похоже, обрадовались моему посещению.
– Разумеется, – улыбнулся мистер Шиллитоу. – Значит, они хорошо вас приняли? О чем они с вами говорили?
О своих мыслях и чувствах.
– Замечательно, – кивнул он. – Ведь вам нужно войти к ним в доверие. Они должны увидеть ваше уважение к ним в нынешних их прискорбных обстоятельствах, чтобы проникнуться ответным уважением к вам как к добровольной посетительнице.
Я уставилась на него в некотором замешательстве. Я все еще не вполне восстановила душевное равновесие после общения с Селиной Доус, а потому после паузы ответила, что не очень-то уверена в своих силах.
– Возможно, я все же не обладаю теми знаниями или свойствами характера, которые необходимы добровольной посетительнице…
Знаниями? – переспросил мистер Шиллитоу. Я знаю человеческую природу, а другого знания здесь от меня и не требуется! Ужели я думаю, что тюремные работницы знают больше моего? Или что они более сострадательны по натуре своей?
Я вспомнила грубую мисс Крейвен, вспомнила, как Доус с усилием сдерживала голос из страха получить от нее нагоняй.
– Но… мне показалось, у иных женщин здесь чрезвычайно тревожное душевное состояние, – сказала я.
Да, такие в Миллбанке всегда есть! Но известно ли мне, что зачастую самые трудные арестантки в конечном счете лучше всех и отзываются на интерес, проявленный к ним посетительницами, поскольку обычно именно они наиболее чувствительны и впечатлительны. Если я встречусь с такой вот трудной женщиной, сказал мистер Шиллитоу, мне следует «обратить на нее особый интерес». Ибо на самом деле она больше всех прочих узниц нуждается в участливом внимании…
Он неправильно меня понял, но пояснить свою мысль я не успела: в следующую минуту к нему подошел караульный с докладом, что дамы и господа, желающие обозреть тюрьму, уже прибыли. Когда я вышла из здания, они ждали на клинообразной гравийной площадке сразу за воротами. Мужчины толпились кучкой у самой стены, обследуя прочность кирпичной кладки.
Как и в прошлый раз, после духоты тюремных блоков воздух показался мне упоительно свежим и чистым. На окна женского корпуса уже наползла тень, но солнце стояло еще высоко и светило ясно – день поистине чудесный! Когда привратник вознамерился выйти за мной на дорогу и свистнуть извозчика, я сказала: «нет-нет, благодарю вас, не надо» – и направилась прямиком к парапету набережной. Я слышала, там до сих пор сохранился причал, с которого тюремные суда увозили осужденных в далекие колонии, и захотела взглянуть на него. Это оказался длинный деревянный пирс, на который выходит темная зарешеченная арка подземного тоннеля, соединяющего причал с тюрьмой. Я немного постояла там, рисуя в воображении страшные тюремные корабли, пытаясь представить, каково приходилось заточенным в них женщинам. А затем, продолжая думать о них, а также о Доус, о Пауэр и о Кук, я медленно зашагала вдоль реки. Я прошла всю набережную; лишь раз остановилась, чтобы понаблюдать за мужчиной, ловившим рыбу на лесу с крючком. На поясе у него висели две мелкие рыбешки с ярко-розовыми ртами и серебристой чешуей, блестевшей на солнце.
Я решила прогуляться до дому пешком, полагая, что мать все еще занята с Прис. Оказалось, однако, что она уже с час назад вернулась и все глаза проглядела у окна. Сколько же времени, интересно ей знать, я бродила одна по городу? Она уже собиралась отправить Эллис на мои поиски.
С утра я немного на нее дулась, но теперь была настроена самым миролюбивым образом.
– Прости, мама, – сказала я.
Я осталась в гостиной и в качестве епитимьи выслушала рассказ Прис о первом визите к мистеру Корнуоллису. Она снова похвасталась своим голубым платьем и показала, в какой позе сидела для портрета: юная девушка с букетом в руках ждет своего возлюбленного, обратив лицо к свету. Мистер Корнуоллис дал ей держать пучок кистей, но на картине это будут лилии. Я невольно вспомнила Доус с ее загадочными фиалками.
– Лилии и задний план он нарисует, пока мы будем за границей, – пояснила Прис.
Затем она сообщила, куда они отправляются. В Италию. Она сказала это совершенно небрежно, – разумеется, Италия для нее совсем не то, чем была для меня когда-то. Однако я тотчас сочла, что моя епитимья исполнена; удалилась в свою комнату и спустилась вниз, только когда Эллис ударила в обеденный гонг.
Но сегодня кухарка приготовила баранину, которую подали на стол изрядно остывшей, подернутой белесоватой пленкой жира. При виде ее я живо вспомнила отвратный запах тюремной похлебки, подозрения арестанток насчет грязных пальцев, в ней побывавших, и напрочь лишилась аппетита. Я вышла из-за стола рано и с час просидела в папином кабинете, листая книги и альбомы гравюр, а потом еще с час простояла у окна в своей комнате, глядя на проезжающие по улице экипажи. Я увидела, как к дому, помахивая тростью, подошел мистер Барклей. Он на минуту задержался у крыльца: растер меж пальцами сорванный с куста листочек, чтобы их увлажнить, и тщательно пригладил усы. Он не заметил, что я наблюдаю за ним из своего высокого окна. Затем я немного почитала, ну а теперь пишу в своем дневнике.
В комнате совсем темно, одна лишь настольная лампа горит – но трепещущий свет фитиля отражается от всех полированных поверхностей. Если я поверну голову, то увижу свое узкое желтоватое лицо в зеркале над камином. Но я не поворачиваю. А смотрю на стену сбоку от стола, где рядом с планом Миллбанка теперь приколота гравюра. Я нашла ее в папином кабинете, в альбоме галереи Уффици: это та самая картина Кривелли, которая сразу всплыла в моей памяти, когда я впервые увидела Селину Доус, – только изображен на ней не ангел, как мне помнилось, а «Истина», написанная много позднее. Она представлена в образе строгой и печальной девушки; в одной руке у нее солнце в виде пылающего диска, в другой – зеркало. Я забрала гравюру к себе, пускай висит здесь. Почему бы и нет? Она красивая.