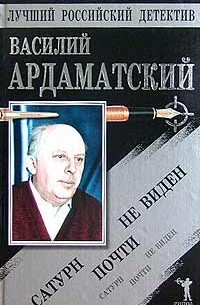Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 9
Шли молча, растянутой цепочкой. Впереди маячила громадная фигура Ольховикова, сразу за ним шагал Рудин. Стоило кому-нибудь звякнуть оружием или глухо чертыхнуться на скользкой тропинке, Ольховиков оборачивался и некоторое время шел пятясь. И тогда виновный старался укрыться за спину впереди идущего, будто командир мог разглядеть его в темноте.
В километре от села Никольского отряд встретил боец, проводивший здесь предварительную разведку. Он сообщил, что в селе находится около двадцати немцев и полицаев. Немцы ночуют в здании школы, а полицаи – по хатам.
Подошли к селу вплотную. Ольховиков сам выбрал место для каждого своего бойца. Оставляя его, он спрашивал:
– Все ясно? Вопросов нет?
– Ясно!..
Разместив бойцов с флангов села и прямо перед ним, Ольховиков вернулся к Рудину, выбравшему себе место на окраине ольшаника, который широкой полосой тянулся западнее села.
Ольховиков присел рядом с ним на землю, прижал к глазам светящийся циферблат часов и сказал шепотом:
– Рубеж заняли хорошо. Ровно через час начнем концерт. – Тронув Рудина за руку, добавил: – Значит, вы из кустов никуда. И пока мы не начнем отхода, сидите здесь без движения. Мало ли что: пуля, она, как известно, дура.
– Вы обо мне меньше думайте, – строго сказал Рудин. – Делайте свое дело, а я – свое.
Ольховиков помолчал, смотря на Рудина, и вздохнул:
– Не знаю, конечно, для чего это делается, но вашей доле не позавидуешь.
– Думайте, повторяю, о своей задаче.
Ольховиков обиженно умолк. Вокруг тишина. Только шорох дождя.
Точно в назначенный срок Ольховиков встал и, подняв ракетницу, выстрелил. Над темными силуэтами домов со свистом взметнулся багровый комочек, со звонким треском он взорвался в воздухе, и огненные капли, на мгновение зависнув в воздухе, начали медленно падать. И тотчас справа и слева затараторили ручные пулеметы. Они точно перекликались краткими очередями. Ольховиков вслушивался в эти звуки, как дирижер в игру оркестра.
– Начали складно, – удовлетворенно сказал он.
Там, где в селе была школа, послышался звон разбитого стекла, крики и ругань по-немецки. Очевидно, солдаты гарнизона покидали помещение кратчайшим путем – через окна. Немцы открыли ответный огонь. Беспорядочная перестрелка длилась около часа.
Особенно ожесточенной она была на правом фланге села.
– Там у них блиндаж с круговым обстрелом, – пояснил Ольховиков.
На левом фланге действовал миномет, он швырял мины через село, видимо, стремясь помочь огневой точке и думая, что партизаны там готовят прорыв в село.
Рудин напряженно вслушивался в разноголосицу выстрелов, стараясь понять, как ведут себя немцы. Пули щелкали по кустарнику, где он сидел, рикошетили то с визгом, то со злым урчанием. Ольховиков ворчливо сказал:
– Ложитесь, товарищ. Это они, гады, стреляют сюда вслепую.
Небо на востоке начало приметно светлеть. Фланговые группы Ольховикова, не прекращая огня, начали уходить от села.
– Мои снимаются, – тихо сказал Ольховиков и, помолчав, смущённо добавил: – И мне пора… – Он смотрел на Рудина выжидательно и удивленно, возможно, до сих пор еще не веря, что этот человек сейчас пойдет сдаваться в плен.
Рудин улыбнулся ему.
– Спасибо, старшина. Идите. Будницкому и всем вашим ребятам – привет…
Ольховиков встал, посмотрел еще раз на Рудина:
– Ну и ну… – Он вздохнул и неторопливо пошел по кустарнику. Издали он еще раз оглянулся на Рудина и пошел быстрее. Его тяжелые шаги затихли вдали…
Рудин встал и медленно пошел к саду. Поднявшись на взгорок, который был как раз против школы, он укрылся за стволом дикой яблони. В предрассветной мгле он уже различал у школы силуэты немцев. Трое стояли, прижавшись к стене, и о чем-то громко спорили, показывая руками в разные стороны. Как раз в это время огонь отходивших бойцов Ольховикова должен был вызвать у них ощущение, что их окружают.
Четверо немецких солдат, привалившись к поленнице дров, стреляли, поминутно меняя направление огня и тревожно оглядываясь на тех, что стояли у школы. Полицаев здесь не было. Очевидно, они вели огонь на восточной окраине села.
Те, что стояли у стены, теперь все чаще показывали в ту сторону, где находился Рудин. По-видимому, они говорили о том, что с этой стороны села противника нет.
Видно вокруг было уже довольно хорошо, но со стороны реки на село наползала белая полоса тумана и чуть притихший недавно дождь вдруг будто с цепи сорвался.
Рудин обнаружил, что стрельбы больше не слышно. Подождал еще минут десять – ни единого выстрела. Только хлещет, шумит злой осенний дождь. Возле школы появилось еще несколько немцев и полицаи. Сбившись в кучу, они возбужденно разговаривали.
Рудин решительно оттолкнулся от яблони и пошел прямо к школе. Вскоре немцы его заметили и взяли автоматы на изготовку. Рудин продолжал идти, делая вид, будто он пытается разобраться, где он находится. Он вышел на открытое место. Теперь немцы видели его хорошо, видели, что он один и что в руках у него нет оружия.
Они не стреляли. Рудин подходил к ним все ближе, и вот он услышал, как кто-то из немцев гортанным голосом отрывисто приказал:
– Взять его!
Два немца и один полицай пошли наперерез Рудину. Рудин остановился, поднял руки. Он стоял и ждал. Немцы и полицай подошли к нему и в трех шагах остановились.
– Сделать обыскание! – приказал полицаю один из немцев.
Полицай, не сводя злобных глаз с Рудина, подошел к нему и начал обыск. Из кармана ватника вытащил пистолет и вернулся к немцам.
– Иди! – крикнул Рудину один из немцев.
– Куда? – по-немецки спросил Рудин.
Немец удивленно посмотрел на него и показал рукой в сторону школы.
Из группы, стоявшей возле школы, вперед вышел высокий худощавый офицер с нашивками младшего лейтенанта. Фуражка с высокой тульей была глубоко нахлобучена на голову, в тени от большого козырька Рудин увидел только ввалившиеся щеки, тонкие сжатые губы и острый подбородок.
– Стой! – по-русски приказал офицер, когда Рудин был еще шагах в пяти от него. – Кто есть такой?
– Я из партизанского отряда, с которым вы вели бой. Решил сдаться в плен, – на хорошем немецком языке ответил Рудин и, сняв кепку, рукавом отер вспотевший лоб.
Немцы переглянулись.
– Отведите его в мою комнату, – приказал офицер.
Рудина ввели в комнату, которая была когда-то школьным классом. Вдоль стен стояли парты. На стене висела диаграмма сравнительной успеваемости Никольской неполной средней школы за 1939/40 учебный год. Рудин механически отметил, что успеваемость повысилась, но, судя по сравнительной высоте столбиков, ненамного. В глубине комнаты стояла разворошенная койка, на стуле возле нее висел китель. Как видно, офицер так торопился, что надел шинель без кителя. На столе стояла эмалированная кружка с недопитым кофе, а на листе бумаги лежали аккуратно нарезанные ломтики белого хлеба и косячок ноздреватого сыра. Тут же стоял зеленый ящичек полевого телефона, провода от которого тянулись в окно.
Конвоировавший Рудина немец стоял у двери и с любопытством рассматривал пленного. Полицаи в комнату не вошли. Не было и офицера, его приметный гортанный голос слышался в коридоре.
Офицер вошел стремительно, ударом ноги распахнув дверь. Повесив фуражку на гвоздь, сбросив шинель на кровать, он надел китель, аккуратно застегнул его на все пуговицы, одернул, прошел к столу и сел в кресло. Может быть, целую минуту он молча снизу вверх смотрел на Рудина большими белесыми глазами, в которых не было ни любопытства, ни злости. В них вообще ничего не было, разве только усталость. Лицо у офицера было серое, с болезненной желтизной. Под глазами – пухлые синеватые мешки.
– Кто ты такой? – спросил он тихо.
– Я же сказал – партизан.
– Где базируется твой отряд?
– Лиговинское болото.
– Ты говоришь неправду – эти болота непроходимые.
– Нет, я говорю правду, в болоте есть остров, и к нему ведут безопасные тропы.
Офицер помолчал.
– Допустим… Фамилия?
– Крамер. Михаил Евгеньевич Крамер.
– Еврей?
– Немец.
– Как так немец?
– Очень просто, я родился и вырос в республике немцев Поволжья.
– Не знаю такой республики.
– Между тем она есть. Вернее – была.
– Сколько ваших наступало на Никольское?
– Человек сорок.
– Почему отступили?
– Я не командир, не знаю. Мне известно только то, что говорил наш командир перед боем. Он сказал, что, по данным разведки, в Никольском почти две роты.
– Какой у тебя партизанский пост?
– Никакого. Рядовой боец, переводчик при командире. Меня мобилизовали в партизаны как знающего язык.
– Что значит мобилизовали? Разве ты не местный?
– Я же сказал вам, я уроженец Поволжья, это возле Саратова. А мобилизовали меня в Москве, где я жил и работал последние два года. Мобилизовали и сбросили сюда с самолета.
– И что же, ты, значит, чистокровный немец?
– Не совсем, мать у меня русская.
– Как ты сказал? Республика немцев Поволжья?
– Да.
– Первый раз слышу.
Рудин пожал плечами.
– Значит, Крамер?
– Да.
Офицер явно был озадачен.
– Партизаны, как правило, в плен не сдаются. Почему ты не оказал сопротивления?
Рудин улыбнулся.
– Это могло стоить мне жизни, а она у меня одна.
Офицер тоже улыбнулся и с этого момента перевел разговор на «вы».
– Какая у вас профессия?
– Инженер коммунального ведомства в городском муниципалитете Москвы. Я работал в отделе, который ведал энергетикой.
– Каков был план нынешней операции вашего отряда?
– По-моему, разведка боем.
– Две роты! – офицер посмотрел на стоявшего у двери немца и рассмеялся. – Ваши разведчики имеют большие глаза и маленькую храбрость. Нас здесь девятнадцать человек.
Офицер крутнул ручку полевого телефона и взял трубку.
– Второй? Здесь – Девятый. Все в порядке, они отступили. Есть пленный… Мне кажется… Нет, мне все же кажется…
Что казалось офицеру, Рудин мог только догадываться. Видимо, не желая говорить в присутствии пленного, офицер приказал конвойному вывести Рудина в коридор.
Рудин решил, что дело обстоит так: офицеру кажется, что пленный представляет интерес, а тот, с кем он говорит по телефону, его интереса не разделяет и, весьма возможно, предлагает пленного без всякой канители ликвидировать. Рудин думал об этом так, будто речь шла совсем не о нем. Вот это и была та угнетавшая его раньше ситуация, когда события становились неуправляемыми, когда нервничай ты, не нервничай, все равно события развертываются без всякого твоего участия. Рудин продумал свои ответы офицеру. Нет, нет, он сделал все, чтобы заинтересовать его своей персоной. Единственная досада, что полицай при обыске взял у него только оружие и не сработало зашитое под подкладку пиджака письмо Крамеру от отца, якобы полученное им еще в Москве в первые дни войны, в котором отец довольно прозрачно намекает сыну насчет голоса крови и призывает его прислушаться к этому голосу. Словом, сейчас все решается в том разговоре офицера по телефону…
Рудина заперли в деревянном сарайчике на школьном дворе. Он сидел на поленнице, стараясь не мучить мозг и нервы раздумьем о том, как сложится его дальнейшая судьба. Ему вспомнилось вдруг, как он мальчишкой на пари стал переплывать Оку и посреди реки его охватил ужас, что у него не хватит сил. Плыви назад, плыви вперед – все равно не хватит. Он начал тонуть. И тут увидел летевшего над рекой голубя, за ним гнался ястреб. Голубь то припадал к самой воде, то взмывал вверх, но ястреб не отставал от него… Но вот голубь сделал крутой маневр, и ястреб проскочил мимо, а голубь повернул к берегу и вскоре исчез там. А Рудин обнаружил, что он не утонул и продолжает плыть к берегу. Он понял простую вещь: нельзя думать, что у него не хватит сил, – эта мысль как раз и отнимает силы. Он стал думать о голубе, который только что на его глазах спасся от смерти. И переплыл Оку.
«Да, бесцельно и даже вредно думать о том, что меня ждет худшее», – решил Рудин и стал тихо декламировать свое любимое стихотворение, жившее в его сердце со школьных лет и с ходом времени вмещавшее в себя все больше, чувств и мыслей:
«Как будто в бурях есть покой!» – повторил Рудин про себя последние строчки и обнаружил, что это его любимое стихотворение уже вместило в себя и то, что сейчас с ним происходило.
«Как будто в бурях есть покой! – еще раз повторил он. – Почему „как будто“? Ведь есть же особый, высший покой, ощущаемый человеком, оказавшимся в центре бури, которой он не боится. И конечно же Лермонтов эти слова „как будто“ написал как бы не от себя, а от какого-то другого, боящегося бурь человека. И слова эти надо понимать так, что говорит их боязливый человек, не понимающий счастья борьбы».
Потом Рудин стал думать об Андросове. Что он сейчас делает, какими мыслями занят? Изучив словесный его портрет, Рудин так отчетливо представлял себе лицо и всю фигуру Андросова, что ему иногда казалось, будто однажды и даже не раз он уже видел его.
Громыхнула дверная задвижка, в сарайчик хлынул блеклый свет.
– Скорей выходи!
Два полицая вывели его на улицу. У ворот школы стоял грузовик, его шофер, тучный немец с усами на багровой физиономии, стоя на подножке машины, стирал грязь с переднего стекла.
По-прежнему лил холодный дождь. День уже клонился к сумеркам.
Рудина подвели к грузовику и велели залезть в кузов. Вслед за ним в кузов забрались и два полицая. Они приказали ему сесть на пол кузова лицом к задней его стенке, а сами уселись на скамейку, стоявшую у шоферской кабины. Вышедший из школы лейтенант передал полицаям конверт и, не взглянув на Рудина, ушел.
Шофер со злостью захлопнул дверцу кабины, машина рванулась с места и помчалась по селу, вздымая фонтаны грязи.
Рудин подумал, что сейчас его вывезут за околицу и там расстреляют. Но нет, машина, не снижая скорости, мчалась все дальше и дальше.
В сгустившихся сумерках впереди показался большой город, тот самый, куда так стремился Рудин. Машина резко затормозила. Шофер вылез на подножку и, заглянув в кузов, начал по-немецки кричать полицаям, что дальше он их не повезет, что отсюда до лагеря ближе всего, что, наконец, он водит не пассажирский автобус, а военную машину и у него есть свои дела. Черт его попутал, когда он послушался того костлявого лейтенанта.
Рудин видел, что полицаи его не понимают, и сказал им: шофер требует вылезать, так как отсюда до лагеря ближе всего.
Полицаи встревожились. Они, оказывается, не знали, где лагерь. Рудин сказал это шоферу. Тот начал ругаться еще пуще. Он, немец, знает, а они, русские свиньи, не знают собственного хлева! Рудин и это перевел полицаям. Те ответили шоферу бранью по-русски. Завязалась горячая перепалка. Рудин уже не успевал переводить, только слушал, еле сдерживая смех.
– Вон ваш лагерь! – устав ругаться, уже спокойнее сказал шофер, показывая в сторону видневшейся вдали железнодорожной насыпи, на которой стоял длинный товарный состав. Шофер обратился к Рудину: – Переведи им, что нужно только перейти железную дорогу, и тут же – лагерь, который им нужен.
Полицаи слезли с грузовика и приказали слезть Рудину. Машина умчалась, обдав их грязью.
– Иди! – вяло сказал Рудину один из полицаев.
Они шли прямо по раскисшему, чавкающему под ногами лугу. Полицаи матерно ругали шофера.
– Будто это нам надо, а не им, – с руганью сказал один из них.
– Что это за лагерь? – не оборачиваясь, спросил у них Рудин.
– Там узнаешь, – ответил один.
– Санаторий, – прибавил другой, и они рассмеялись.
До насыпи они добрались, когда заметно стемнело, но еще нужно было обойти длинный товарный состав. По ту сторону насыпи происходило что-то непонятное. Там то вспыхивал, то гас яркий свет. Слышались выкрики команд, лай собак и качающийся глухой гул.
Они обошли состав и стали переходить через железнодорожное полотно. Перед ними выросла фигура часового.
– Стой, кто идет? – испуганно крикнул по-немецки солдат.
– Опять двадцать пять! – произнес один из полицаев и, показывая на Рудина, начал кричать солдату, точно тот был глухой: – Вот его… в лагерь… партизан… в лагерь.
Солдат выпученными глазами смотрел то на Рудина, то на полицаев. Видимо, он понял только одно слово – «партизан» и теперь не знал, что ему делать.
– Вызови кого-нибудь из начальства, – спокойно сказал ему Рудин по-немецки.
– Сейчас. А ты посмотри за ними, – также по-немецки сказал солдат Рудину и, отбежав на несколько шагов, засвистел в свисток. К нему подбежал другой солдат, они о чем-то переговорили, и тот, другой, побежал с насыпи вниз. Солдат вернулся и сказал:
– Сейчас придет офицер, – сказал он Рудину, явно не понимая, кто из этих троих партизан.
Рудин видел перед собой громадную равнину, обнесенную высоким забором из колючей проволоки. Там строилась бесконечная серая колонна. То и дело прожекторы со сторожевых вышек обдавали эти шевелящиеся колонны ярким светом и тотчас гасли. Лаяли собаки. Что-то неразборчивое орал высокий голос, усиленный радиодинамиком. Но вот колонна качнулась и двинулась вдоль забора. Прожекторы уже не гасли, и их лучи двигались вслед за колонной. Теперь Рудин ясно понял, что это колонна пленных и что ее ведут к поезду.
Он не ошибся. Когда колонна через ворота вышла из лагеря, ее развернули вдоль поезда и вскоре остановили. Послышались слова команды, и колонна стала разделяться на куски. Потом пленные направились к поезду, каждая группа – к своему вагону.
В это время на насыпь взбежал запыхавшийся немец с нашивками капрала.
– Что тут такое? – спросил он у часового.
– Привели в лагерь какого-то партизана, – ответил часовой и показал на полицаев.
Капрал быстро подошел к ним.
Полицаи подтолкнули Рудина в спину.
– Объясни ему.
Рудин сказал капралу, что он пленный партизан и что его направили в этот лагерь.
– Что за чепуху вы говорите? – тяжело дыша, воскликнул капрал. – Не могли вас сюда направить. Этот лагерь ликвидирован. Где документы?
Рудин спросил у полицаев, есть ли у них какие-нибудь документы.
Один из них выхватил из-за пазухи конверт и отдал капралу. Тот достал из кармана фонарик и, подсвечивая им, прочитал вынутую из конверта бумагу.
– Чертовщина какая-то, – проворчал он, пряча бумагу в карман. – Стойте здесь, я сейчас узнаю.
Капрал побежал вдоль поезда.
Пленные уже залезли в вагоны. Рудин видел, как в стоявший рядом крайний вагон пленные подсаживали своих ослабевших или больных товарищей. Кто-то стонал громко, протяжно, и тихий бас ласково приговаривал:
– Потерпи, потерпи, сейчас…
Стон затих.
Прожектор с угловой вышки водил своим лучом вдоль поезда. В полосе света дождь казался золотым. Посадка заканчивалась. В некоторых вагонах с грохотом закрывали двери.
– Сколько наших похватали! – не то с восхищением, не то огорченно сказал один из полицаев.
К ним подошли два офицера в длинных черных клеенчатых плащах. Мокрые от дождя, их плащи казались сделанными из железа. Пришедший с ними капрал показал на Рудина.
– Партизан – вот этот.
Офицеры удивленно посмотрели на Рудина и переглянулись. Один из них взял у капрала бумажку.
– Посвети!
Офицер прочитал бумажку и тихо сказал что-то другому офицеру; тот кивнул головой. По их приказу капрал привел долговязого солдата.
– Этот крайний вагон ваш? – спросил у него офицер.
– Да.
– Сколько у вас?
– Сто четырнадцать человек.
– Будет сто пятнадцать, для более удобного счета. Посадишь к себе вот этого. – Офицер показал на Рудина.
Солдат уже шагнул к Рудину, но офицер остановил его.
– Подожди, вот документы на него. Сдашь их по месту прибытия и объяснишь, что этого человека взяли в поезд по моему приказанию.
– Будет исполнено, – солдат спрятал бумажку за отворот пилотки и крикнул Рудину: – Ну!
Офицеры ушли. Сопровождаемый долговязым солдатом, Рудин подошел к вагону и, ухватившись рукой за боковину двери, легко впрыгнул в вагон. И тотчас перед самым его лицом с грохотом задвинулась дверь. Непроницаемая темнота. Шорох тихих голосов, приглушенные стоны. В эту же секунду Рудин принял решение. Он должен бежать – больше никакого выхода у него нет. Только бы не заперли вагонную дверь. Но если ее запрут, он взломает зарешеченное колючкой окошко. Сев на пол, Рудин напряженно прислушивался к звукам за дверью.
Когда вагон наполнился рокотом колес, Рудин, ухватившись за край двери, попробовал чуть-чуть ее сдвинуть. Не тут-то было. Упершись в пол широко расставленными ногами, он со всей силой нажал на край двери. Безрезультатно.