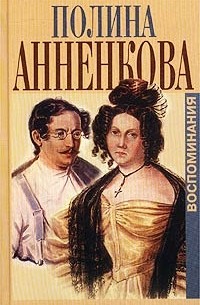Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава одиннадцатая
Тяготы путешествия – Восемнадцать дней до Иркутска – Жестокие морозы – Дорожные приключения – Русская красавица – Встреча с декабристом Корниловичем – Сибирское радушие – Приезд в Иркутск
По мере того как я удалялась от Москвы, мне становилось все грустнее и грустнее. В эту минуту чувство матери заглушало все другие, и слезы душили меня при мысли о ребенке, которого я покидала.
Меня провожали два человека, выбранные мною еще заранее из многочисленной дворни Анны Ивановны. Один из них был тот Степан, который сопровождал меня всюду и которого я очень любила, тем более, что он служил мне переводчиком. Другой – Андрей, которого мне почти насильно навязали. Несмотря на то, что этот Андрей старался мне угодить всем и прислуживал с большой предупредительностью, я ему не доверяла, но принуждена была, однако ж, взять его с собою, так как третий – Михаила, который сначала было согласился сопровождать меня, потом отказался, а Андрей сам предлагал услуги свои, и кормилица девочки моей за него очень ходатайствовала.
Подорожную, за которую я заплатила 400 рублей 80 коп. (конечно, ассигнациями), выдали мне в Москве только до Иркутска, так что мне не было известно, куда далее я должна буду ехать, и только в Иркутске узнала я, что именно – в Читу.
До Казани добралась я с трудом, потому что, не имея понятия о зимних дорогах, не умела выбрать экипажа, а купленный мною в Москве оказался слишком тяжел. В Казани на мое счастье были две тетки Ивана Александровича, у которых я и остановилась. Они приняли во мне большое участие и помогли запастись теплым платьем на дорогу, а также выменять мой тяжелый возок на две купеческих повозки, крытые рогожами. Эти экипажи были так легки и так прочны, что нисколько нас не задерживали, лошади точно летели. Правда, что и дороги были бесподобные. Наконец, моей быстрой езде много способствовал бланк, выданный Давыдовым, начальником всех сибирских почт, по просьбе одной из почтенных тетушек Анненкова в Казани.
Из этого города выехала я 4 января 1828 года, в 12 часов ночи, и были в Перми 6-го. Везде, где я ни появлялась, все изумлялись, с какою быстротою я ехала. Мне самой непонятно теперь, как могла я выносить такую быструю езду, при таком ужасном холоде, какой был в ту зиму. Из Москвы до Иркутска я доехала в 18 дней и потом узнала, что так ездят только фельдъегеря. Зато однажды меня едва не убили лошади, а в другой раз я чуть-чуть не отморозила себе все лицо, и если бы на станции не помогла мне дочь смотрителя, то я наверное не была бы в состоянии продолжать путь. Эта девушка не дала мне взойти в комнату, вытолкнула на улицу, потом побежала, принесла снегу в тарелке и заставила тереть лицо. Тут я только догадалась, в чем дело. В этот день было 37° мороза, люди тоже оттирали себе лица и конечности, и мы мчались снова.
Выезжая из Перми, я заметила, что нам заложили каких-то необыкновенно маленьких лошадей (башкирских), но таких бойких, что они не стояли на месте. Между тем повозку мою тщательно закупорили от холода и крепко застегнули фартук. Степан сидел на козлах, Андрей ехал в другой повозке, ямщик был молодой мальчик. Я стала наблюдать, что он все греет себе руки, заложив вожжи под себя. Вдруг лошади, почуя, что ямщик распустил вожжи, помчались с необыкновенной силой, мигом сбросив ямщика и человека с козел. Постромки у пристяжных оборвались, и осталась одна коренная, которая, спускаясь с пригорка, упала, повозка полетела вместе с нею и опрокинулась. Тогда все чемоданы, уложенные в повозке, свалились на меня. Со мной была неизменная моя собака Ком, она страшно выла, и я начинала буквально задыхаться, когда услышала шаги около повозки и увидала человека. Тогда я стала просить помочь мне поскорее. Человек этот, вероятно, был очень силен, потому что не затруднился поднять повозку и поставил ее на полозья. Я увидела пред собой башкирца, который ни слова не говорил по-русски. Мы смотрели друг на друга с недоумением. Я второпях, не подумав о том, что делаю, движимая чувством признательности к человеку, спасшему мне жизнь, вынула свой портфель, довольно туго набитый, и подала ему 25-рублевую ассигнацию. Но оглянувшись, спохватилась, что мы были с ним одни с глазу на глаз в дремучем лесу. Воздух был так густ, что кругом ничего не было видно. Со мною была сабля, которую я достала и встала у экипажа, оперевшись на нее. Так мы простояли целый час с моим спасителем. Он ехал с возом соломы, когда увидал меня в опасности и подоспел на помощь. Через час я услышала какой-то непонятный для меня в то время шум, но впоследствии слишком знакомый. Шум этот происходил от оков, в которых подвигалась целая партия закованных людей, иные были даже прикованы к железной палке. Вид этих несчастных был ужасен. Чтобы сохранить лица от мороза, на них висели какие-то грязные тряпки, с прорезанными дырочками для глаз.
Наконец я увидела и моих людей. Другую повозку лошади тоже понесли, ямщик, как и мой, свалился с козел, а лошади примчались на следующую станцию, с которой уже люди возвращались, разыскивая меня. Станция находилась в трех верстах, мы скоро добрались до нее, отдохнули и, оправившись от испуга, продолжали путь. Совершив переезд через Уральский хребет, мы достигли Екатеринбурга. Здесь люди мои потребовали остановки, чтобы отдохнуть, в чем, по справедливости, я не могла им отказать и в чем сама также очень нуждалась.
Недалеко от Екатеринбурга нас чуть-чуть не остановили какие-то люди, вероятно, не с добрым намерением. Из лесу выехало человек пять или шесть верхом и закричали на нас: «Стой!» Но ямщики наши не оробели, погнали лошадей с криком и свистом, отвечая, что едут не купцы, и мы ускакали.
В Барабинской степи, чтобы как-нибудь заставить меня выйти из экипажа, Степан на одной из станций убеждал меня зайти посмотреть на красавицу, а так как я часто высказывала, что в России мало красивых женщин, то Степан действительно подстрекнул мое любопытство. Я зашла в комнату и была поражена, увидев девушку лет восемнадцати, которая сидела за занавескою и пряла. Это была раскольница, и замечательно красивая.
В Томск приехали мы в воскресенье рано утром и остановились на день. Я воспользовалась остановкой, чтобы сходить к обедне и встретила в церкви двух сенаторов: Безродного и князя Куракина, которые производили тогда в Сибири ревизию.
Между Томском и Красноярском на одной из станций я встретила молодого человека с фельдъегерем. Это был Корнилович, отправленный сначала вместе с другими в Читинский острог. Теперь фельдъегерь, который год спустя после того, как были отправлены все декабристы в Сибирь, привез Вадковского в Читу, вез обратно Корниловича в Петропавловскую крепость, как я узнала потом. Позднее из Петропавловской крепости Корнилович был отправлен на службу на Кавказ, где вскоре скончался. Фельдъегерь, везший Корниловича, был гораздо человечнее, чем тот, который вез Ивана Александровича Анненкова с товарищами, так что при встрече со мною Корнилович был без оков, о чем, впрочем, он очень просил меня не говорить коменданту Читы Лепарскому.
В Красноярске Степан и Андрей доказывали мне, что необходимо починить полозья у экипажей, но я более не хотела останавливаться и, несмотря на их уверения, что полозья не дойдут до Иркутска, доехала благополучно. Вопреки уверениям Александра Дюма, который в своем романе говорит, что целая стая волков сопровождала меня всю дорогу, я видела во все время моего пути в Сибирь только одного волка, и тот удалился, поджавши хвост, когда ямщики начали кричать и хлопать кнутами.
Проезжая через Сибирь, я была удивлена и поражена на каждом шагу тем радушием и гостеприимством, которые встречала везде. Была я поражена и тем богатством и обилием, с которым живет народ и поныне (1861 г.), но тогда еще более было приволья всем. Особенно гостеприимство было сильно развито в Сибири. Везде нас принимали, как будто мы проезжали через родственные страны, везде кормили людей отлично, и когда я спрашивала, – сколько должна за них заплатить, ничего не хотели брать, говоря: «Только Богу на свечку пожалуйте». Такое бескорыстие изумляло меня, но оно происходило не от одного радушия, а также и от избытка во всем. Сибирь – чрезвычайно богатая страна, земля необыкновенно плодородна, и не много надо приложить труда, чтобы получить обильную жатву.
В Каинске мне рассказал почтмейстер, как княгиня Трубецкая, рожденная графиня Лаваль, проезжая летом, должна была бросить в этом городе карету свою, которая сломалась дорогой и некому было починить ее. Таким образом, эта женщина, воспитанная в роскоши, выросшая в высшем кругу, изнеженная с детства, проскакала 1750 верст в сквернейшей тележке, потому что в Каинске, кроме перекладной, она ничего не могла достать, а кто знает, что такое перекладная!
Около Красноярска я съехалась на одной из станций с губернатором Енисейской губернии. Подстрекаемый любопытством, прочитав мою иностранную фамилию и предполагая, что я еду к кому-нибудь гувернанткою, он подошел ко мне и, очень извиняясь, что обращается с расспросами, сознался, что не может устоять против желания узнать, каким образом, не говоря по-русски, я решилась ехать так далеко. Я отвечала ему шутя – мой веселый характер беспрестанно брал верх, несмотря ни на какое горе. Но когда я ему объяснила, куда именно я еду, то он с большим участием отнесся ко мне и просил поклониться всем осужденным, особенно барону Владимиру Ивановичу Штейнгелю и братьям Николаю и Михаилу Александровичам Бестужевым.
Немного далее я встретила одного молодого человека в военном платье, который, узнав о цели моей поездки, прослезился, говоря, что у него много там товарищей, что он тоже участвовал в обществе, но сослан в Сибирь на службу. Сожалею, что я забыла его фамилию.
Наконец достигла я Иркутска, к величайшей радости моих людей, которые очень утомились дорогой, а главное – страдали от морозов.