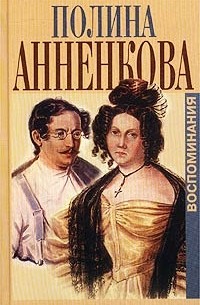Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава девятая
Вяземские маневры – Беспрестанные тревоги – Содействие Лобанова-Ростовского – Просьба на высочайшее имя – Упражнения великого князя – Решительный день – Полина Гебль и Николай I – Посещение Дибича – Бородинское поле – Встреча со стариком крестьянином
15 мая 1827 года я была уже в Вязьме, несмотря на то, что лошадей было очень трудно доставать, но деньги везде помогают. Я платила сверх прогонов и давала щедро на чай. Таким образом перегоняла беспрестанно полковников и генералов, которые скакали также в Вязьму. Подъехав к самой Вязьме, я вообразила, не знаю почему, что меня не пропустят, и от страха и волнения у меня так сильно билось сердце, что темнело в глазах. Но шлагбаум подняли, и я вздохнула свободнее.
В Вязьме я знала, что была гостиница, которую содержал француз, и велела вести себя прямо туда. Но в гостинице было такое множество военных, и положительно ни одной женщины, что неприятно было оставаться там. Тогда знакомый мой француз предложил мне отдельную квартиру, приготовленную им для французского консула Веера, который почему-то не приехал, и квартира оставалась свободной. Несмотря на то, что она была страшно дорога, и условия были такие, что пробыть день или месяц, все равно надо было заплатить 400 рублей, я все-таки согласилась взять ее, тем более, что квартира эта была в двух шагах от дворца и рядом с тем домом, где помещался великий князь Михаил Павлович.
Как только я немного устроилась в своей квартире, так сейчас же послала за m-r Палю – французом, которого я также знала, когда еще раньше жила в Москве. Он не замедлил явиться, сообщил все, что делалось в это время в Вязьме, и сказал, что m-r Мюллер уже тут. Государь должен был приехать на другой день. Мюллер был метрдотель при покойном государе Александре Павловиче и в то время находился при императоре Николае Павловиче. С ним я встречалась по приезде в Москву на балах, которые давали тогда французы, и просила Палю привести мне его непременно. Палю был прелестный старик, чрезвычайно обязательный, вежливый до тонкости, настоящий француз старых времен. В нем я нашла большую нравственную поддержку, он был для меня самым нежным отцом в те ужасные минуты, которые пришлось мне пережить в Вязьме.
Нелегко было решиться в то время подойти к государю Николаю Павловичу с такою просьбою, какова была моя. К тому же я была так изнурена от душевной тревоги, что едва держалась на ногах. Палю не оставлял меня ни на минуту, и только опираясь на его руку я была в состоянии двигаться. Он привел мне и Мюллера. Тот изумился, когда увидел меня, так я в то время изменилась. Он не хотел верить, чтобы я была та самая, которую он когда-то встречал на балах. Я просила Мюллера посоветовать мне, как и когда будет удобнее подать просьбу государю. Он отвечал, что даст мне ответ через полчаса, и действительно, вскоре после того как вышел от меня, вернулся и сказал, что я должна непременно прежде всего обратиться к князю Алексею Лобанову-Ростовскому, так как он более всех любим государем.
Тогда, поблагодарив Мюллера, мы тотчас же с Палю отправились разыскивать князя Лобанова. Но очень было трудно застать князя дома. Первый раз, когда мы с Палю подошли к дому, где он остановился, нам сказали, что он на маневрах, но меня это не испугало. Немного погодя, когда мы вернулись, отвечали, что он обедает у государя. Таким образом, мы в этот вечер подходили семь раз к его квартире и только в восьмой раз застали его наконец у подъезда, разговаривавшего с крестьянами. Когда он кончил, я подошла. Он просил подождать немного и ушел к себе. Через несколько минут нас позвали, и князь вышел в мундире, тогда как раньше был в военном сюртуке.
На его вопрос, чем он может быть полезен, я отвечала:
– Князь, мне сказали, что я должна обратиться к вам, чтобы узнать, как подать просьбу его императорскому величеству.
– О чем вы просите, сударыня?
– Соблаговолите познакомиться с моею просьбой, князь.
Он пробежал просьбу, но не совсем поняв смысл ее, обратился ко мне со словами:
– Но другие дамы получили ведь разрешение следовать за своими мужьями.
– Да, князь, но они – законные жены. У меня же нет прав на это имя, а за меня говорит только моя любовь к Анненкову, а это чувство, в котором всегда сомневаются.
– Но, сударыня, вы хотите меня заставить верить в будущее.
Потом прибавил он:
– Собственно говоря, сударыня, в вашей стране эти господа были бы приговорены к смерти.
– Да, князь, но у них были бы адвокаты для защиты.
Тогда князь Лобанов-Ростовский посмотрел на меня выразительно; у него были прекрасные черные глаза. Он не прерывал меня, я хотела продолжать и высказать, что во Франции Иван Александрович не был бы осужден так строго, потому что не был взят с оружием в руках и 14 декабря находился в своем полку, который не возмущался, но в это время вошел Строганов, тоже флигель-адъютант. Тогда я поклонилась Лобанову, а он сказал, чтобы я оставила ему просьбу. Мы с Палю вышли, но едва отошли от квартиры князя, как услыхали за собою торопливые шаги и, обернувшись, увидели князя Лобанова, который, казалось, догонял нас. И действительно, он отдал мне просьбу, говоря, чтобы я прибавила на ней «в собственные руки его величества», и прибавил, чтоб на другой день я была бы непременно с просьбою у подъезда дворца в то время как государь будет садиться в коляску. Наконец посоветовал написать также великому князю Михаилу Павловичу и пробить его ходатайствовать за меня.
Мы с Палю поспешили вернуться домой и принялись немедленно сочинять письмо к великому князю. Вот оно:
«Ваше высочество! Блестящая похвала вашей доброте, известной в моей стране, дала смелость обратиться за помощью к вашему императорскому высочеству. Я умоляю на коленях просить за меня у его императорского величества исполнить просьбу, которая будет подана его величеству. В ней я прошу разрешения следовать в ссылку за государственным преступником и нам обвенчаться с ним, чтобы навсегда соединить свою судьбу с его судьбой и никогда с ним не разлучаться. Я льщу себя надеждой, что вы не оставите несчастную мать, которая вот уже девятнадцать месяцев не имела минуты покоя и у которой нет никаких надежд, кроме надежды на милость его величества и на доброту вашего императорского высочества. Я отказываюсь от родины и буду свято исполнять все, что закон мне предпишет. Анненков обещал жениться на мне. Он не имел возможности исполнить свое обещание, и я не сомневаюсь, что он не изменил своему намерению. Его величеству стоит только приказать, и я буду ждать с величайшей покорностью. Ваше высочество, простите смелость вашей покорной просительницы и не откажите сочувственно отнестись к ее просьбе. Глубоко вас уважающая и преданная слуга вашего императорского высочества».
Письмо это было мною отправлено с человеком к Николаю Николаевичу Анненкову, адъютанту великого князя, с просьбой передать его высочеству, что Николай Николаевич не замедлил сделать, как пришел мне сказать человек, которого я посылала. В это время я подошла к окну и увидала, что великий князь садился в коляску с Лобановым, чтобы ехать к государю. Князь Лобанов говорил что-то с оживлением, а великий князь, казалось, внимательно слушал его. У меня нервы так были расстроены и напряжены, что мне показалось, что они говорят обо мне. Эта мысль так меня встревожила, что я вскрикнула вслух, несмотря на то, что была одна в комнате: «Это они говорят обо мне». Человек прибежал на мой крик и спрашивал, что со мной, но я сама не знала, что со мною делается.
Через час Палю пришел за мной, и мы пошли с ним к дворцу приискивать место, где встать, так как на другой день я должна была подать просьбу государю. Перед дворцом была такая толпа, что мы с трудом могли пробраться к подъезду. Едва остановились мы, как я увидела на балконе Лобанова с великим князем. На этот раз я не ошиблась, что Лобанов говорил обо мне, потому что он с балкона показывал на нас. Услышав в то же время за собой какой-то шум, я обернулась и увидала верхом жандармского генерала. Это был граф Бенкендорф. Он горячился и, опять-таки указывая на нас, подозвал к себе квартального, который тотчас же подошел. В эту минуту я жестоко струсила: мне представилось, что меня приказывают схватить и отправить за границу. Я до такой степени растерялась, что совершенно бессознательно сняла с себя часы, деньги и отдала все это человеку моему, который очутился тут, следуя за нами, конечно, из любопытства.
Между тем квартальный подошел к Палю, спросил, как его зовут, жена ли я его? Палю отвечал, что нет; дочь – нет. Я стояла чуть жива и дрожала, как лист, в полной уверенности, что меня тотчас же схватят.
Но в это время подоспел мне на помощь князь Лобанов-Ростовский. Сошедши с балкона, он подошел ко мне со словами, которые в эту минуту были как нельзя более кстати, потому что иначе, мне кажется, я бы от страха и отчаяния лишилась рассудка, если бы этот страх не рассеялся тотчас же. Лобанов говорил, что моя просьба уже известна великому князю, что его высочество будет ходатайствовать за меня перед государем и что я могу надеяться на успех. Когда подошел к нам князь Лобанов, квартальный тотчас же исчез, чему я более всего была рада.
Все-таки я вернулась домой совершенно разбитая и утомленная. Ночь я провела в ужасных мучениях, то терзаемая сомнениями, то поддерживаемая надеждою. К утру только, часов в пять, я начала было засыпать, как вдруг меня разбудил страшный шум барабанов. Я вскочила, стала прислушиваться и была очень удивлена тем, что шум этот происходил в комнате великого князя. А так как мою квартиру отделяла только одна стена от помещения великого князя Михаила Павловича, то понятно, что я не могла спать под этот шум. Великий князь учил барабанщиков выбивать бой. Я встала и подошла к окну, чтобы освежить себя утренним воздухом. Тут поразила меня сцена, которая, как иностранку, меня очень заняла. У подъезда великого князя стоял солдат, очень красивый мужчина, большого роста, затянутый в мундир, и такой прямой, что походил на деревянного. Около него суетился офицер, осматривал со всех сторон, обмахивал своим батистовым платком пыль с мундира и даже с сапог. Я догадалась, что они должны были представляться великому князю. Эта сцена развлекла меня немного. Когда все затихло, я снова предалась своим думам и ожиданиям.
Наступающий день был самым решительным для меня в жизни. Я должна была быть у дворца с моею просьбою к десяти часам. Когда пришел за мною Палю, я давно уже была одета и ждала его. На мне было белое простое платье, шляпка с огромными полями, как тогда носили, и черная турецкая шаль. У дворца опять была толпа. Мы с Палю встали как можно ближе к подъезду. Мой старик тоже принарядился. Одетый в черный фрак, с шляпою в руках, с седыми, густыми волосами, зачесанными назад, он был очень представителен. Князь Лобанов предупредил меня, что бой барабанов должен будет возвестить выход государя.
К одиннадцати часам барабаны забили, и на лестнице дворца показался император Николай Павлович в сопровождении целой толпы генералов и адъютантов. Я была снова поражена гробовым молчанием, которое царствовало в толпе, и подумала, что у нас во Франции бывает не так. За государем следовал князь Лобанов. Он оглянулся в ту сторону, где мы стояли с Палю, и от моего напряженного внимания не ускользнуло, что он что-то сказал государю.
В эту минуту я чувствовала, что силы оставляют меня, ноги дрожали, и не мудрено: с тех пор как я выехала из Москвы, я ни разу не села за стол, чтобы съесть хотя бы ложку бульона, и питалась одной сахарной водой. Мюллер присылал мне каждый день целый обед из дворца, но я ни до чего не дотрагивалась и отдавала все человеку. Упоминаю об обедах потому, что это дало повод ко многим толкам (говорили, что мне прислал обед сам государь, но, право, мне было не до обедов).
Я так ослабела в то время, что должна была сделать большое усилие, чтобы подойти к государю. Когда я протянула руку, чтобы вручить ему просьбу, Николай Павлович взглянул на меня тем ужасным, грозным взглядом, который заставлял трепетать всех. И, действительно, в его глазах было что-то необыкновенное, что невозможно передать словами. Вообще, во всей фигуре императора было что-то особенно внушающее.
Он отрывисто спросил:
– Что вам угодно?
Тогда, поклонившись, я сказала:
– Государь, я не говорю по-русски, я хочу получить милостивое разрешение следовать в ссылку за государственным преступником Анненковым.
– Это не ваша родина, сударыня. Может быть, вы будете очень несчастны.
– Я знаю, государь, но я готова на все, и я – мать.
Тогда государь сделал знак кому-то, чтобы взяли просьбу, между тем приложился, все смотря мне в глаза. Я низко присела. Потом, садясь в коляску, Николай Павлович приложился еще и, наконец, отъезжая, обернулся в мою сторону и приложился в третий раз. Я никак не думала, чтобы все три поклона императора относились ко мне. Но Палю, который поддерживал меня сзади под руки, потому что я дрожала, как лист, от волнения, шептал мне: «Успокойтесь, все хорошо, государь вас приветствует». (В самом деле, Николай был чрезвычайно любезен.) Все это ободрило меня. Я возвратилась домой гораздо покойнее и с какою-то уверенностью и надеждой на успех.
После обеда государя Мюллер прибежал ко мне с сияющим лицом, поздравлял и уверял, что дело мое выиграет, потому что государь за обедом говорил обо мне и, видимо, был тронут моей просьбой. Государь был в самом лучшем расположении духа и говорил Мюллеру, который стоял за его стулом: «Но, мой друг, вы хотите нас уморить, заставив так много есть».
Вечером я пошла в сопровождении Мюллера к князю Лобанову, который повторил мне слово в слово то, что я уже знала, прибавив, что он заранее уверен в моем успехе. Потом сказал, что барон Дибич очень желает меня видеть и что я хорошо сделаю, если пойду к нему. Я, конечно, готова была исполнить желание Дибича, но меня смущало только идти одной, так как Палю в этот вечер не мог сопровождать меня. Откладывать, впрочем, было некогда, и я решилась отправиться, взяв человека, чтобы проводить меня.
Дибич занимал маленький домик против самого дворца, с прескверной лестницей, которая вела на балкон, и другого входа в его квартиру не было. Когда я подошла и увидела на балконе множество военных, то очень сконфузилась и, обращаясь к человеку, который понимал по-французски, невольно сказала: «Боже! Сколько офицеров!» Добрый мой Степан ободрял меня, говоря: «Ничего, барыня». Тогда я преодолела робость, овладевшую мною в первую минуту, завернулась в свою шаль, надвинула шляпу на глаза, стараясь скрыть лицо, и стала подниматься по лестнице. Едва я поднялась, как ко мне подбежал какой-то адъютант, говоря, что барон не может принять меня, потому что едет сейчас к государю, так как государь оставляет Вязьму. Я отвечала: «Будьте добры сказать барону, что он хотел меня видеть».
В это время, взойдя в переднюю, я увидела целый ряд комнат перед собою и в самой дальней Дибича, который шел ко мне навстречу. Он был маленького роста, поразительно дурен собою и шел, хромая и переваливаясь с боку набок. Подходя ко мне, он повторил то, что я уже слышала два раза: «Государь читал вашу просьбу, сударыня, он был растроган. Я ее тоже читал и прослезился. Поздравляю вас, ваша просьба будет исполнена».
Возвратясь домой, я тотчас же послала за лошадьми и, простившись с моим другом Палю и Мюллером, выехала из Вязьмы. По дороге, когда нам пришлось проезжать мимо Бородинского поля, я приказала человеку остановиться. Тут я вышла из экипажа и помолилась за тех, которые облили эту землю своей кровью. В числе прочих был убит один из моих дядей.
Подъезжая к Москве, верст за пятьдесят, на одной из станций человек сказал мне, что в избе есть один старик больной, который просит меня зайти непременно. Я была очень удивлена этим и упрекала Степана, говоря, что он, наверное, что-нибудь тут разболтал. Но Степан настаивал, и я наконец уступила и вошла в избу. Старик крестьянин сидел на кровати, длинные седые волосы и большая борода буквально покрывали ему грудь и плечи. Увидя меня, он привстал немного со своей постели и поклонился низко, касаясь пола своей дряхлой рукой. Еще более поразили меня слова старика. В то время я начинала уже понимать по-русски и с помощью Степана, который мог переводить несколько, я узнала, что старик говорил так: «Здравствуй, матушка! Я узнал от твоего человека, зачем ты ездила к государю. Дело, матушка! Господь сохрани тебя, ведь я знаю, чего они хотели: господа-то хотели свободы нашей, свободы крестьян».
Когда я въезжала в Москву, солнце стояло уже высоко и освещало ярко московские колокольни. Город точно улыбался, везде ставили березки, – в этот день была Троица.