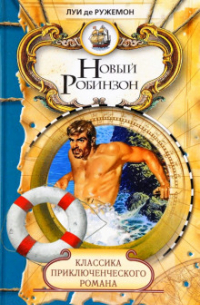Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
XXVII
После смерти и похорон Гибсона я решил переселиться подальше на север и, согласно этому моему решению, окончательно поселился со всем своим семейством (женой и двумя детьми, мальчиком и девочкой, родившимися у меня во время пребывания моего на берегу лагуны) в живописную горную местность под тропиками, миль 200 или 300 к северу от лагуны. Я имел намерение лишь временно поселиться здесь, но у меня явились новые связи, и к тому же мои малютки были далеко недостаточно сильны, чтобы предпринять столь трудное и дальнее путешествие, какое я имел в виду. Здесь я должен сказать, что сделал роковую ошибку, пожелав воспитать их иначе, чем воспитывают своих детей туземцы.
На пути нашем к северу произошел следующий случай: однажды Ямба прибежала ко мне, буквально дрожа от ужаса, и объявила мне, что она набрела на невиданный и неведомый след, очевидно, след какого-то громадного животного – такого страшного чудовища, о котором здесь не имеют никакого понятия. Она повела меня к тому месту, где видела таинственный след, приведший ее в такой неописанный ужас, но который я тотчас же признал за след верблюда. Не знаю почему, но я решил идти по этому следу, хотя он был далеко не свежий, здесь прошел верблюд, может быть, за месяц или даже и того раньше, а потому нагнать караван, конечно, не было ни малейшей надежды, но я рассуждал так, что, идя по этому следу, мог найти какие-либо брошенные или оброненные предметы, которые могли мне быть полезны. Как бы то ни было, но мы шли по этому следу в течение нескольких недель или, быть может, даже месяцев: мы находили множество жестянок от мясных и других консервов, которые мы впоследствии применяли в качестве посуды. Однажды я набрел на иллюстрированный номер журнала; то был сиднейский журнал 1875 или 1876 года. Это был полный номер, даже в обложке, и, как мне ясно помнится, в этом номере был рисунок, изображающий скачки, кажется, в Парраматта. Я тут же расположился в кустах и с жадностью принялся читать этот журнал. Ямба к этому времени уже достаточно ознакомилась с английским языком, а потому я стал читать вслух. Не смею, конечно, утверждать, что она понимала все, что слышала, но она видела, что я до крайности заинтересован и обрадован этой находкой, а потому и она была рада пробыть подле меня целые сутки и слушать мое чтение. Читатель, вероятно, успел уже заметить, что при всех обстоятельствах и условиях нашей жизни я был доволен моей верной Ямбой, всегда столь преданной, заботливой и любящей. Итак, хотя мы в продолжение нескольких недель шли по этому следу, все же не нагнали каравана верблюдов. Мне показалось, что Ямбе, в конце концов, стало докучать это упорное следование по чужому следу, да и сам-то я сознавал, что это пустая трата времени.
Трудно сказать, какой драгоценностью являлся для меня этот журнал; я читал и перечитывал его до тех пор, пока не заучил наизусть всего его содержания от начала до конца, не исключая даже и объявлений. В числе последних меня особенно поразило одно, помещенное, вероятно, исстрадавшейся матерью, разыскивающей какие-либо сведения о своем пропавшем сыне. Это объявление невольно навело меня на мысль о моей матери. Но, благодарение богу, думал я, она-то не имеет надобности разыскивать меня: я знаю, что она теперь уже примирилась с утратой сына и не питает уже ни малейшей надежды увидеть меня живым, потому что считает давно умершим. И странно, это размышление примирило меня с мыслью о моем отчуждении от всего цивилизованного мира. Если бы я мог допустить, хотя на мгновение, что моя мать еще питает надежду когда-нибудь увидеть меня и что она переживает мучительные сомнения относительно постигшей меня участи, мне кажется, я бросил бы все на свете и решился бы положительно на все, чтобы вернуться к ней. Но я наверное знал, что она слышала о гибели «Вейелланда» и давно уже примирилась с потерей сына, считая его безвозвратно погибшим.
Трудно себе представить, с каким наслаждением я читал и перечитывал свой журнал; рисунки, помещенные в нем, я показывал своим детям, а также и своим чернокожим дикарям, и последние приходили в неописанный восторг от этих изображений, в особенности от картины скачек. С течением времени листы журнала стали рваться, и я сделал для них прочную обложку из шкуры кенгуру. В настоящее время вся библиотека моя состояла из Нового Завета в англо-французском тексте и этого журнала.
Теперь я расскажу об одном очень важном явлении в связи с этим случайно найденным мною периодическим изданием. Пробежав его в первый раз, я испытал такое сильное волнение, что, право, даже опасался некоторое время за свой рассудок. Дело в том, что в журнале на довольно видном месте я прочел следующую фразу: «Депутаты Эльзаса и Лотарингии отказались вотировать в германском рейхстаге».
Так как мне ничего не было известно о кровопролитной войне 1870 года и об изменениях, происшедших на карте Европы, явившихся последствием этой войны, то фраза эта поразила меня до крайности: я положительно не верил своим глазам, читал и перечитывал эти слова все снова и снова, все более и более удивляясь тому, что я читал. «Боже правый! – восклицал я чуть ли не в сотый раз. – Как попали в германский рейхстаг депутаты Эльзаса и Лотарингии? Что они могли делать там?» Наконец, замечая, что вопрос этот слишком волнует меня, и что я положительно выхожу из себя, я отбросил в сторону журнал и пошел дальше.
Но это не помогло, я все обдумывал этот самый вопрос, и он казался мне до того непонятным и необъяснимым, что я пришел, в конце концов, к тому убеждению, что, вероятно, я не так прочел или неверно понял смысл фразы, что глаза мои обманули меня. И вот я бегом вернулся назад, поднял журнал вторично и снова ясно увидел перед глазами те же слова. Напрасно я подыскивал им объяснение, и, в конце концов, мне взбрело в голову, что вследствие какой-то неправильности функций моего мозга буквы кажутся мне не теми, каковы они в действительности, и что я, по всем вероятиям, теряю рассудок. Даже и Ямба не могла мне вполне сочувствовать на этот раз, потому что дело это было такого рода, что я не в силах был бы растолковать ей так, чтобы она поняла меня. Я всячески старался окончательно выкинуть эту мысль из головы, но этот непонятный, мучивший меня до физической боли параграф так и звучал у меня в ушах, так и стоял в моих глазах до тех пор, пока я чуть было не впал в идиотизм.
Что меня спасло от окончательного умопомешательства, так это то, что мы пришли в благословенную гористую страну, которую я избрал местом своего пребывания. Я ничуть не преувеличиваю, если скажу, что мое новое место жительства в самом центре австралийского материка было поистине раем земным. Травы и папоротники были здесь удивительной вышины; местность гористая, защищенная от ветров и украшенная великолепными лесами эвкалиптов и белой резины.
В долине я построил себе дом таких размеров, каких туземцы никогда не видали раньше: он имел 20 футов в длину, 18 футов в ширину и около 10 в высоту. Внутри весь дом был разукрашен папоротниками, боевым оружием и звериными шкурами всех сортов, а затем на самом видном месте красовался меч пилы-рыбы, трофей моей победы над мнимым нечистым духом лагуны. Дом мой, конечно, не имел очага, так как вся стряпня всегда производилась под открытым небом; стены дома были построены из неотесанных бревен, а пазы замазаны землей от муравейников. Хотя я и сказал выше, что построил себе дом, но в сущности выражение это не совсем точно; вернее было бы сказать, что Ямба и остальные женщины построили его под моим руководством, так как сам я не смел срубить ни единого дерева, потому что такого рода труд считался унизительным для мужчины и главы семьи. В сущности, я не имел надобности в доме, но для меня являлось особым наслаждением сознание, что вот это строение – мой дом, моя собственность, мой родной уголок.
И вот, когда я окончательно поселился здесь, то был избран полновластным вождем одного туземного племени, в котором насчитывалось до пятисот душ.
Слава о моих подвигах и необычайных, сверхъестественных способностях разнеслась на сотни миль в окружности; ежемесячно, или вернее – каждое новолуние, я устраивал у себя прием для депутатов различных соседних племен, приходивших ко мне издалека. То племя чернокожих, вождем которого я был избран, уже имело своего вождя, но мое положение было совершенно исключительное и несравненно более влиятельное, чем его; мое слово имело гораздо больше веса и значения, чем его, хотя я был избран и признан вождем, не пройдя мучительного и унизительного искуса, которому неизбежно подвергаются все кандидаты в вожди племени. Конечно, я был обязан этим своей громкой известности и тем сверхъестественным способностям, которые приписывались мне. Я неизменно участвовал на всех военных советах и совещаниях моего племени; даже на другие племена имел большое влияние. Я не упускал ни одного случая, чтобы придать приятность моему новому жилищу и даже не поленился сделать целое путешествие с намерением добыть саженки виноградных лоз; но, хотя они прекрасно принялись у меня, плод их по-прежнему сохранил острокислый вкус, неприятный для горла. Кроме того, я изловил живого какаду и обучил его нескольким английским фразам, как, например, «Good morning» («С добрым утром») и «How are you?» («Как вы поживаете?»). Попка этот, кроме забавы, был еще и полезен мне: он садился на какой-нибудь сук в лесу и своей неумолчной болтовней привлекал множество других своих собратьев, так что я с помощью моего лука и стрел мог набить столько птиц, сколько мне было угодно.
К этому времени у меня был уже целый зверинец домашних животных, в том числе и ручной кенгуру.
За это время я, конечно, имел много случаев изучать этнографию моего народа и вскоре убедился, что мои чернокожие – крайние спиритуалисты и мистики. Каждый год они справляли особое торжество, которое, если описать его, может возбудить недоверие моих читателей. Празднество это справлялось всегда в ту пору, «когда солнце возрождается», то есть приблизительно в Новый год. К этому времени все воины из ближних и дальних селений собирались в известном месте и, после целого ряда празднеств, усаживались, наконец, в кружок на большой лужайке, чтобы присутствовать при спиритическом «сеансе», руководимом женщинами, очень старыми, страшными на вид колдуньями, очевидно, обладавшими какими-то тайными силами и способностями и пользовавшимися среди своих соплеменников большим уважением. Эти колдуньи обыкновенно содержатся за счет всего племени; их звание не переходит от матери к дочери, не наследуется, а может быть доступно только женщинам, одаренным сверхъестественными силами. После великого корроборея все усаживаются, поджав под себя ноги, полукругом на траве; старые и почетные воины в первом ряду, позади них рассаживаются молодые воины, затем юноши, далее женщины, а за ними дети. В центре этого полукруга разводится громадный костер. После довольно продолжительного безмолвия некоторые из воинов начинают воспевать подвиги давно усопших героев, за ними, вторя их монотонному пению, подхватывают все остальные присутствующие, сопровождая свое пение усердным покачиванием головы и хлопаньем ладоней о бедра. Затем молодые воины исполняют перед всем собранием особую пляску. Чем дальше, тем больше мужчины доводят себя этим пением, при все учащающемся темпе качания головы, хлопанья ладоней, а также движений пляшущих, до самых крайних пределов возбужденности, до положительного беснования, усиливающегося еще более при внезапном появлении трех или четырех колдуний у костра. Все они очень стары и тощи до невероятия, с кожей, напоминающей иссохший пергамент, с всклокоченными жидкими волосами и пронзительными, глубоко ушедшими в свои орбиты глазами. На них нет никаких украшений, и они больше походят на обтянутые кожей скелеты выходцев с того света, чем на живые существа. Покружившись некоторое время в какой-то бешеной кругообразной пляске вокруг костра, они вдруг все разом распростираются на земле, пение мгновенно прекращается, и воцаряется мертвая тишина, в которой невольно чувствуется какое-то таинственное веяние; затем распростертые на земле колдуньи начинают взывать особым голосом, выкликая имена усопших воинов. Взоры всех присутствующих, при водворившемся снова гробовом молчании, устремляются на клубы и струйки дыма, медленно подымающегося от костра к вечерним небесам. Немного погодя ведьмы, или колдуньи, опять возобновляют свои заклинания и жалобно вызывают усопших славных вождей и воинов; наконец, я к немалому своему удивлению, почти ужасу, увидел странные формы и очертания, вырисовывающиеся в дыму костра. Поначалу очертания эти были смутны, неявственны, но постепенно они принимали формы человеческих существ, и тогда присутствующие с восторгом признавали в них именно тех из их умерших вождей и воинов, имена которых упоминали в своих заклинаниях старые колдуньи. В первые разы, когда мне случалось присутствовать при этих спиритических сеансах моих чернокожих, я предполагал, что это появление духов не что иное, как результат какого-нибудь ловкого обмана, но впоследствии, год от года присутствуя на этих празднествах, пришел к тому убеждению, что этот факт следует отнести к разряду таких фактов, которые стоят вне нашего понимания, вне пределов нашей философии. Надо заметить, что никому не разрешалось подходить настолько близко к этим духам, чтобы можно было дотронуться до них, да и в том случае, если бы это допускалось, навряд ли кто-либо из туземцев решился отважиться на подобный поступок, питая непреодолимый страх и безотчетный ужас ко всему, что было в связи с усопшими.
Каждый из этих сеансов продолжался около двадцати минут или получаса. В продолжение всего времени, когда духи были видимы, колдуньи оставались распростертыми на земле, а остальные присутствующие не сводили глаз с привидений, не шевелясь и не издавая ни звука. Мало-помалу привидения эти начинали расплываться в облаках дыма и, наконец, совершенно исчезали, после чего все собрание расходилось в совершенном молчании, а на следующее утро все пришедшие из других местностей расходились по своим селениям и домам.
Колдуньи же, как я узнал впоследствии, жили совсем особняком в пещерах; они были, действительно, одарены даром провидения и прорицания, что я испытал даже лично на себе. Когда я поселился здесь в горах, они предсказали мне, что я проживу с их народом долгие годы, но затем вернусь к себе подобным людям. Воины туземцы также обыкновенно обращались к этим колдуньям и спрашивали их относительно предстоящей охотничьей или военной экспедиции, и всегда, во всем в точности следовали советам этих авгуров.
Теперь скажу несколько слов о моих детях: они были для меня большим утешением и отрадой в моей жизни; конечно, они были полукровные метисы и больше подходили к типу матери, чем к европейскому типу отца, но их беленькие ручки и ногти ясно свидетельствовали об их происхождении. Они, конечно, не были крещены по христианскому обряду, но вместе с тем не были воспитаны так, как обыкновенно воспитывают своих детей туземцы. Я обучил их английскому языку и любил их от всей души, постоянно занимался ими, изготовлял для них различные украшения из чистого золота и не позволял им принимать участия в грубых играх туземных ребятишек. Однако это нисколько не мешало им быть весьма популярными и пользоваться общей любовью. Они отличались особенной ласковостью и привлекательностью в обращении и проявляли чрезвычайно большую способность все заучивать и запоминать. Я часто рассказывал им о том, как живут люди в других странах, где раньше жил и я; но, говоря о цивилизованном мире, не делал никакого различия между различными нациями, называя всех равно, как французов, так и швейцарцев, англичан и американцев. Замечательно, что дети мои более всего интересовались животным царством других стран, и когда я сказал им, что надеюсь когда-нибудь увезти их в свою страну и показать им животных, которые там водятся, то радость их не знала границ. Особенно им хотелось видеть лошадь, слона и льва. Часто, вооружившись палкой, я рисовал им на песке изображение того или другого животного, что приводило в неописуемый восторг не только моих детишек, но и всех взрослых членов моего племени, собиравшихся вокруг меня и ожидавших с нетерпением моих пояснений относительно каждого из этих невиданных животных и о том, какое их назначение и чем они могут быть полезны. Необходимо было преимущественно останавливаться на утилитарной стороне всего, о чем мне приходилось им рассказывать. Дети мои умерли впоследствии один за другим в 1891 и 1892 году. Девочка моя была крещена, а мальчик скончался, прежде чем над ним мог быть совершен обряд святого крещения. Детки мои весьма гордились моим исключительным положением и громадным влиянием среди народа, с которым мы жили. К этому времени и я сам стал более похож на чернокожего туземца, чем на европейца: не столько от влияния солнца и климата, сколько вследствие постоянного смазывания всего тела смесью угля и жира, что является прекраснейшим предохранительным средством как от зноя, так и от стужи, а также и от укусов различных насекомых.
Мои дети никогда не могли понять, что мое пребывание среди туземцев было не добровольное, а вынужденное невозможностью вернуться в цивилизованные страны. Все дети чрезвычайно интересовали меня, и, даже имея своих, я не переставал относиться с любовью к ребятишкам туземцев, которые с своей стороны очень любили меня. Для меня было истинным удовольствием смотреть на них, как они резвились, возились и забавлялись где-нибудь на просторной, открытой лужайке; вся их жизнь была сплошным весельем, счастливым, беззаботным праздничным днем. Не было у них ни школ, ни учителей, ни задач, ни уроков, ни наказаний, ни взысканий. Нет детей более счастливых, как дети дикарей! Эти дети почти никогда не ссорятся между собой, так как они довольны своей участью, чужды зависти, злобы и всяких желаний; целыми днями они упражняются в метании своих тростниковых копий, лазают по деревьям, отыскивая соты диких пчел и придумывая различные веселые забавы. Часто, глядя на этих сильных, здоровых и ловких малышей, я с грустью сравнивал их с моими детьми, которые были такие худенькие, тоненькие, нежные с самого начала и затем дали мне столько душевных мучений и страха.
Когда я, после смерти Гибсона, поселился в прекрасной местности, о которой говорил выше, мне даже в голову не приходило, что я проживу здесь многие годы, но по мере того, как проходили год за годом, не только мысль, но даже и само желание вернуться в цивилизованные страны совершенно покинули меня. Теперь я был вполне доволен своей участью; я чувствовал, что если бы сюда явился громадный караван и предложил мне увезти меня с собой, вместе с моей женой и детьми, то я, конечно, согласился бы вернуться с этим караваном в цивилизованные страны, но ни под каким бы видом не решился бы расстаться теперь с теми близкими мне существами, которые были мне так дороги. Я даже не раз имел случай вернуться один в цивилизованные страны, но всякий раз отказывался воспользоваться им, чувствуя, что не в силах буду оставить свою семью.