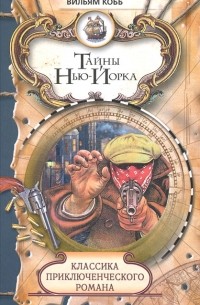Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 11. Круги ада
После приведенного нами разговора Лонгсворд не оглядываясь бежал по улицам. Голова его пылала, он бежал так, будто хотел скрыться от своих мыслей, как от убийцы, который преследовал его.
Он остановился у чугунного парапета набережной. Эдвард смотрел на черные волны, отражавшие небо, покрытое свинцовыми густыми облаками… Он подумал о самоубийстве. Но вдруг перед ним возник образ Антонии.
Он должен был жить потому, что чувствовал себя обязанным сделать ее счастливой. Он хотел видеть ее безмятежной, веселой… Он должен был жить для предстоящей борьбы с человеком, подлость которого ужасала его…
Он думал о ребенке… Бартон предлагал узаконить его! Как можно подумать об этом всерьез!
Разве он не принадлежал ему, Эдварду, и ей, Антонии?..
Ему представлялась картина, наполненная огнем и кровью. Ему грезился страшный вихрь, из которого доносились до него вопли, проклятия жертв… Затем глухие толчки, предшественники опустошительных взрывов…
Наступила ночь.
Лонгсворд бесцельно, спотыкаясь, как слепой, брел по улицам.
Он ничего не видел перед собой… Он видел только то, что происходило в его мозгу, в его совести, где шевелились какие-то странные и угрожающие тени… Это было безумие отчаяния.
Вдруг Эдвард вздрогнул.
Чья-то рука легла на его плечо.
Человек, одетый в черное, с тросточкой в руке, возник перед ним словно призрак.
Призрак оказался известным американским поэтом Даном Йорком.
Натура тонкая, нервная, каждый атом которой вздрагивал при малейшем сотрясении, Дан Йорк в этом мире, где признают только волю и силу, был человеком случайным.
Рано осиротев, Дан вступил в жизнь с довольно значительным состоянием. Он горячо отдался всем фантазиям своего пылкого ума. Мечтательной и тревожной натуре хотелось воплотить все желания, возникшие в экзальтированном мозгу.
Он объездил весь свет в поисках ответов на вопросы, возникавшие перед пытливым исследователем во все времена и во всех уголках Земли. Он видел египетские пирамиды и джунгли Амазонки, водопады, океаны и горы. Он видел развалины Колизея и притоны Гонконга. Он страстно любил и был также страстно любим, он обманывал и его обманывали. Он осушил и разбил все чаши наслаждения. И по мере того как угасал луч очередной иллюзии, новые лучи уже манили его вперед.
«Сумасшедший!» – говорили недоброжелательные.
«Больной!» – шептали снисходительные.
Пришла нужда. Тогда Дан Йорк взялся за перо и за несколько росчерков продал часть самого себя, как тот герой Бальзака, который уступал частицу своей жизни взамен какой-нибудь радости, какого-нибудь удовлетворенного желания. Америка удивилась. Это были произведения недюжинного ума. Это была совсем не та вялая, туманная, фальшивая поэзия, перед которой тают восторженные мисс или экзальтированные матроны.
Йорк действительно вкладывал частицу себя в свои произведения. Если он писал, то лишь потому, что из его напряженного мозга вылетала некая искра, которую ему удавалось поймать на лету. Страстный, пытливый, он углублялся в бесконечно малое, чтоб извлечь оттуда что-нибудь странное, неведомое, огромное.
Чем больше он мечтал, тем беспредельнее становились его грезы. Тогда он чувствовал, что падает… Читая некоторые страницы, им написанные, понимаешь тот священный трепет, который овладевает человеком, ставшим лицом к лицу с Бесконечным… Да, это был больной человек, да, но болезнь эта зовется гениальностью.
Испытав все и не найдя нигде пищи, в которой он нуждался, Дан Йорк начал искать новых ощущений в пьянстве. И вот однажды вечером уселось у его изголовья полнолицее привидение с мертвенным цветом лица, с покрасневшими глазами, то, которое впивает в свою жертву стеклянные взгляды, вонзает когти в ее горло или сдавливает ее мозг своими костлявыми пальцами, будто тисками, и заставляет все суставы хрустеть как плохо соединенные части деревянного паяца.
Это была Ее Величество Горячка.
И Дан Йорк, с клеймом этого демона на лице, жил без ненависти, без любви, от всего отрешившись, похожий на каторжника, прикованного к ядру, которое он всюду тащит за собой…
Оратор, романист или поэт, блистающий остроумием, пылкий, искрометный, – иногда становится пошлым циником, безжалостный сатирик, анатомирующий самые трепетные порывы души, вдруг становится томным меланхоликом. Черное становится белым. Вода – огнем. Дан Йорк, насмехаясь над окружавшим его миром, оставался одиноким в толпе и блуждал в ожидании того дня, когда какой-нибудь полисмен не поднимет его с плит тротуара.
В этот вечер ему вдруг захотелось услышать человеческий голос.
Потому-то он и положил руку на плечо Эдварда Лонгсворда.
– Что вы делаете на улице так поздно и в такую погоду? – спросил Дан молодого человека.
Эдвард поднял голову.
Йорк увидел этот бледный лоб, эти впалые щеки, эти безумно блуждавшие глаза…
– Вы страдаете! – воскликнул он.
Дан Йорк был бесконечно добр. Не любя себя, он любил других. Особенно симпатизировал он юношам. Молодость была очагом, возле которого он любил согреваться.
Эдвард сначала не узнал его, потом воскликнул:
– Дан Йорк! О, само Небо послало вас!
– Увы, – отвечал Дан. – Плохой же оно преподнесло вам подарок…
– Не смейтесь, мистер Йорк, не смейтесь таким саркастическим смехом… Я страдаю… Я попал в такую машину, которая дробит мою душу и тело!.. Не смейтесь и спасите меня… Если это в ваших силах…
Дан Йорк отступил на шаг. Одним взглядом он измерил всю беспредельность страдания, отражавшегося на этом искаженном отчаянием лице.
Он взял Лонгсворда под руку и внезапно охрипшим голосом сказал:
– Я не буду смеяться. Вам нужно высказаться… Я вас слушаю.
Шел мелкий и холодный дождь.
– Пройдемся, – предложил Йорк.
Они находились около Парковой площади.
– Ах! Если бы вы знали… – прошептал Эдвард.
– Великие слова: «если бы вы знали»! Я тоже часто восклицал таким образом и, если бы нашелся кто-нибудь, чтобы выслушать меня, я не был бы теперь Даном Йорком, осужденным на то, чтобы окончить жизнь в сумасшедшем доме… Если бы я знал! Что ж, я хочу, я должен знать… Говорите!
Эдвард содрогнулся.
Говорить? Открыть постороннему тайну своих мучений, сорвать покров, под которым трепетал испуганный, кроткий образ Антонии!
Эдвард молчал. Крупные слезы катились по его щекам.
– Друг мой, – сказал поэт, наклоняясь к нему и сжимая его руки в своих тонких и длинных руках, – доверьтесь мне и облегчите свою душу.
– Ну хорошо! – сказал Эдвард. – Вы сможете определить глубину этой бездны человеческой подлости… но…
Он колебался.
– Дан Йорк – сумасшедший, как утверждают очень серьезные люди, – сказал поэт с тонкой улыбкой, – Дан Йорк развратник, Дан Йорк убивает себя пьянством – шепчут мамаши, указывая на мою шаткую фигуру, проходящую под окнами… Но никто еще не сказал, что Дан Йорк когда-либо выдал друга или не сдержал данного слова… Юноша, взгляните мне прямо в глаза!.. Я даю вам честное слово хранить все в глубокой тайне.
Губы Эдварда дрогнули.
– Когда я бываю пьян, – сказал Дан, – о, не беспокойтесь, тогда я нахожусь в том мире, где не говорят на человеческом языке.
Эдвард решился.
Он заговорил…
Сначала он вел повествование в анонимной форме. Он никого не называл по именам. Но понемногу действительность одолела его, он открыл все. Молодой человек не владел больше собой. Он кричал, он проклинал… Когда речь зашла об Антонии, голос его рыдал. Потом он рассказал о свидании с Бартоном, причем повторил слово в слово ужасный разговор, в котором этот человек осмелился обнажить всю гнусность своих намерений.
– И этот человек ее муж! И она в его власти точно так же, как и я! Йорк, я чувствую, что схожу с ума!.. В мою голову приходят ужасные мысли… Он не должен жить… Да, это так, я убью Бартона!
– Не каждый может быть убийцей, – сказал Дан, внимательно слушавший, – нельзя убивать из-за неблагоприятного впечатления…
– О да, я эгоистичен, жесток… Я понимаю… Но ведь иначе она погибла… Это ее смерть, смерть нашего ребенка!..
Дан пустился в отрывочные, лишенные последовательности рассуждения. Он приводил примеры сделок с совестью… И потом, нельзя ли было помедлить? Разве была необходимость спешить? Разве не существовало возможности выиграть время? Опасность, во всяком случае, не была неизбежной. Нужно только иметь терпение…
Эдвард злился, возмущался.
Аргументы поэта были жестки и весомы.
Вскоре Эдвард немного успокоился.
Горячечное состояние уступило место опустошению.
Наступила даже такая минута, когда Дан, совершенно ненавязчиво добился улыбки на лице Эдварда, даже не заметившего ее. В разговор незаметно вклинилась шутка, меткая, острая, живая…
– Что вы делаете сегодня ночью? – спросил Йорк.
– Откуда мне знать?
В это мгновение он совершенно отчетливо увидел себя в своей комнате, одинокого, с глазу на глаз с призраками, которые, конечно, снова начнут свою адскую пляску вокруг него.
– Не оставляйте меня! – попросил Лонгсворд.
– Дайте руку! – ответил Йорк.
Они шли по Бродвею.
– Куда вы ведете меня? – спросил молодой человек.
– Пока никуда, – отвечал Йорк, – сейчас нет еще одиннадцати часов…
И вот что решил Йорк…
Он видел перед собой глубокое, беспросветное отчаяние. Он видел, что этот человек скользил по плоскости, которая вела его или к хладнокровному преступлению, или к безумному самоубийству. Необходимо было, чтобы это страдание столкнулось с муками еще более ужасными, нужно было, чтобы эта жертва отчаяния содрогнулась при виде еще более страшного отчаяния…
И Дан Йорк, ничего не объясняя, как Вергилий в «Божественной комедии», вел Лонгсворда к адским кругам, этому чудовищному скопищу горя и безысходных страданий, который каждая столица, а Нью-Йорк более чем всякая другая, носит на своей груди как незаживающую гнойную рану.
Они прошли мимо «Могил» и повернули на Центральную улицу.
Странные звуки доносились до них.
То была какая-то крикливая мелодия, зловещая увертюра, в которой смешивались визг скрипок, стон медных инструментов, напоминавших завыванье ночных птиц, звон надтреснутых цимбал и грохот дырявых барабанов.
Затем – зловещий шум, в котором можно было отличить по временам пронзительные крики, нескладное пение, вой и проклятья.
Эдвард прижимался к своему другу.
Он осматривался кругом, не зная, где находится.
Страшная вонь сдавила ему горло… Его моральное опьянение теряло свою силу… Он догадывался, что идет в какие-то неведомые, ужасные места…
Вдруг сцена осветилась.
– Узнаете ли вы местность? – сказал Йорк. – Это Пять Углов, ад и галеры нашего города.
К Пяти Углам прилегают пять улиц. Это перекресток. В него упираются длинные, узкие, грязные переулки, усеянные деревянными домишками, большей частью покривившимися, с расшатавшимися балконами, нечто вроде свай, вбитых в лужи нечистот.
Ночью, при желтом свете газовых фонарей все это похоже на остовы старых кораблей, которые используют как понтоны. Эта безобразная груда черных теней причудливо громоздится, угрожающе нависает над вами. Все вокруг ужасно грязно и ветхо.
Днем здесь царит тишина. Изредка лишь слышится неясный шепот: или пробуждение вчерашнего пьяницы, или оханье больного, или же это уносят какой-нибудь труп. Труп кого-то без имени, какого-нибудь бедняги, не проснувшегося сегодня утром или найденного мертвым от холода и истощения где-нибудь в темном углу, куда он запрятался, чтоб испустить последний вздох.
Но вечером со всех концов большого города парии толпами сбегаются в свои законные владения… Целый день они бродили по огромному городу в своих грязных лохмотьях, они просили милостыню там, где подают ее, и крали там, где можно украсть…
Дети бегали, прыгали, кувыркались перед каретами наперегонки с лошадьми, иногда давившими их. Они собирали несколько центов, играли в «голову» или «хвост» – то же, что у нас «орел» или «решка».
Женщины искали… кого? Кто бросит взгляд на этих поношенных созданий со свинцовым цветом лица, с высохшей шеей?
Все это возвращается вечером в семью отверженных и угнетенных, под тот жалкий кров, где нет ни каст, ни классов, ни слоев, где все подходит под один уровень стыда и разврата…
Здесь сходятся сотни, тысячи…
И когда они возвращаются из этого ежедневного обхода, тогда начинаются гнусные сатурналии.
На подходе к Пяти Углам бедняков поджидает чудовище – мрачный скелет, кости которого хрустят под сухой, как пергамент, кожей… Это голод, хватающий их за желудок и влекущий в Зоир-Ноине, суповое заведение.
Заглянем туда.
Это на самом перекрестке, на первом этаже. Большой зал. Стены отсырели и покрыты похабными рисунками и надписями; здесь угрозы, проклятия, чванство порока; это словарь воровского жаргона и ругательств.
В глубине, занимая всю ширину стены, стоит длинный прилавок, покрытый цинком; за ним возвышается широкоплечая высокая женщина с толстой шеей, расплюснутым лицом красного цвета и седоватыми волосами. Она размахивает громадным черпаком, необходимым придатком чугунного котла, в котором кипит черная похлебка. Это суп.
Перед прилавками – толпа.
Где место едва-едва для одного, там их четверо.
Каждый протягивает руки.
– Супу на цент!
Мегера окунает черпак в жидкость. Она знает с аптечной точностью, сколько можно дать на цент… Потом выливает суп в фаянсовую или оловянную посуду…
Жидкость густая, клейкая, чтоб лучше держалась в желудке.
Но между заказом и исполнением его выполняется необходимая формальность.
– Давай звонкое! – говорит женщина.
«Звонким» называются здесь деньги.
Кредита не существует. Сентиментальность – здесь понятие чуждое. Нет денег – нет и супа. Любимые клиенты получают, кроме супа, кость и улыбку, но тоже после «звонкого».
За цент – одну ложку. За два цента – три ложки. Это тариф. Большая уступка делается оптовым покупателям. Три ложки составляют почти литр.
При желании вы можете очистить посуду до блеска. К чему ложная деликатность? Пальцы, язык – все годится! И надо торопиться, потому что сосед ждет посуду и не очень жаждет, чтоб ее осушали так тщательно…
После супа надо выпить рюмочку чего-нибудь.
Специальный напиток – терпентинная водка. Что это такое? Сейчас узнаете. Денатурат с перцем и с запахом минерального масла! Два цента за кружку. Трое пьют в складчину одну: каждый – поровну.
Теперь надо покурить.
По получении «звонкого», один из «официантов» берет глиняную трубку, цвет которой свидетельствует о долговременной службе. Чубук обкусан множеством зубов. «Официант» набивает трубку, придерживает отверстие грязным пальцем для более точной меры, потом сам закуривает, выпускает струю дыма и передает трубку изнывающему от нетерпения клиенту.
Отходить от прилавка во время обслуживания запрещено. Иначе какая гарантия сохранности посуды, кружек или трубок?
А клиенты? Можно ли описывать то, что не имеет ни формы, ни цвета? Эти физиономии ужасны, оживлены ли они глупым смехом животной беспечности или несут на себе отпечаток горя.
Одна лишь яркая черта – ненасытное желание, алчность.
Все эти несчастные едят, как правило, один раз в день.
Да еще как едят! Те, которые не приходят в суповое заведение, питаются луком, как те рабы, которые когда-то построили пирамиды.
Одежду описать нельзя. Это почти нагота, на которую наброшены лохмотья. Один нашел кусок старого войлочного ковра и прорезал в нем дырку для головы. Другой украл в гавани дырявый мешок – и устроил себе тунику, на которой можно прочитать черные буквы: «Соаl Wагеhоusе, № 178».
Среди этих жалких подобий человеческих существ бродят два человека…
Эдвард Лонгсворд оторопело смотрит на этот мир, который его ужасает… Дан Йорк изучает его.
– Уйдем! – шепчет Эдвард.
– Рано! Нам остается еще три часа до рассвета.
И наклоняется над пьяным, который пытается уцепиться за стену ногтями, чтоб встать.
– Позвольте узнать, сударь, – спрашивает он его с самой изысканной вежливостью, – где переулок Убийцы?
Тот смотрит на него.
– Вы разве не знаете?.. – спрашивает он, силясь удержать равновесие… – Стало быть, вы не там живете?
– Там, – говорит Дан, – но я заблудился…
– Вот что! Это потому, что много выпили! Ну, пойдем, я добрый малый… я тебя проведу!
Дан ставит на ноги своего проводника.
Все трое направляются к переулку.
Откуда происходит это зловещее название «Переулок Убийцы?» Никто точно не знает. Что там совершилось преступление, вот в этом можно не сомневаться.
Но какая из этих улиц не имеет права на такую же известность? Тут нет ни одного уголка, который не был бы обагрен кровью. Пять Углов не могли обойтись без переулка Убийцы. Длина его – шестьдесят метров. В ширину – не будет и двух.
Он прям, как клинок стилета.
Он темен, как могила. Над крышами не видно даже кусочка неба.
Одно из двух строений, вдоль которых тянется переулок, предназначено было раньше для производства сахара, другое было пивоварней. Это было уже очень давно. Явились спекулянты и решили, что для такого города нищих нужно нечто вроде караван-сарая, дворца нищеты. Его называют теперь «Золотая пещера», потому что в недрах этого мрачного притона нищие находят высшее сокровище – сон и, как знать, – иногда и светлые грезы.
Дан Йорк и Эдвард следовали за пьянчугой. Тот шел почти прямо, хватаясь руками за обе стены.
Он остановился около правого строения. Что-то черное выделялось на фоне стены. Это была дверь из плохо сколоченных досок.
Проводник постучал. Три удара.
На уровне лиц пришедших открылась форточка и показалась голова; рядом с ней – рука с фонарем.
– Окаянная собака! – раздался скрежещущий голос. – Это опять ты? У тебя нет ни цента! Ступай спать в воду!
Пьяный пробормотал несколько умоляющих слов. Дан Йорк подошел и стал рядом с ним.
– Откройте! – сказал он отрывистым голосом.
Дан – вечный странник. Его знали и в «Золотой пещере» точно так же, как во «Флоренции» или «Рице».
– Впустите этого беднягу! – сказал поэт.
И он вложил в руку хозяина притона деньги. Тот немедленно исполнил его приказание. Пьяный побрел в глубь помещения.
– Этот джентльмен со мной! – сказал Йорк.
Эдвард вошел за ним.
Хозяин больше не интересовался ими и ушел на свой сторожевой пост: он лежал поперек двери, прислушиваясь и наблюдая. Спал он днем.
Четыре коптящие лампы, прикрепленные к стенам, освещали «Золотую пещеру».
Это был большой четырехугольный зал с очень низким потолком. В целях экономии места над домом было надстроено бесчисленное множество этажей. Нездоровая сырость носилась в воздухе, стены были покрыты пятнами плесени.
Пола не было: твердая земля и на ней сотня человеческих существ, спавших в разных положениях, как попало; сперва каждый старается устроить себе удобное место, но потом, уже во сне, все понемногу сдвигаются и составляют сплошную массу лохмотьев.
Лохмотья замерли, скованные мертвым сном их хозяев. При бледном свете ламп глаз видит темно-серую массу, на фоне которой четко выделяются лохмотья ярких цветов. Это угол негров. Тут, как и везде, расы отделялись одна от другой, по крайней мере настолько, насколько позволяла теснота помещения.
Изредка среди тяжелого храпа раздавался стон, жалобный, сдерживаемый. Это больные.
Они подавляют свои стоны из боязни быть изгнанными.
Чтоб провести ночь в этой вонючей трущобе, рассаднике эпидемии и всякой грязи, нужно заплатить два цента.
Ужаснее всего то, что здесь были и женщины, державшие на руках детей, поникших от усталости.
Содрогаясь от ужаса и отвращения, Дан Йорк и Лонгсворд смотрели на эту печальную картину.
Вдруг послышался стук в дверь. Форточка снова открылась.
После обмена положенными фразами открылась и дверь.
Человек атлетического сложения, впрочем, скорее напоминающий гориллу, с низким лбом и глазами, как будто пробуравленными на плоском лице, вошел первым.
За ним вошли двое юношей, таких бледных, что казалось непонятным, как они держались на ногах. Через плечо у каждого висела на перевязи скрипка.
– Где ты подобрал их, мистер Кломп? – спросил хозяин, оглядывая вошедших, которые тряслись от ужаса и холода…
– Там, на улице… Они умирают с голоду!.. Дай им по куску хлеба… Я плачу.
– Разве ты стал покровителем детей?
Тот, которого назвали Кломпом, криво усмехнулся и подмигнул своему собеседнику.
Хозяин понял, что за этим благодеянием должно было скрываться какое-нибудь хитрое намерение.
И он повиновался, ответив понимающей улыбкой на подмигивание мистера Кломпа.
– Теперь, мои барашки, – сказал Кломп, – поешьте и ложитесь спать! Это лучше, чем щелкать зубами на темной улице, не правда ли?
Юноши ели молча. Они только взглянули друг на друга – и крупные слезы покатились у них из глаз.
– Как это ужасно, – прошептал Лонгсворд.
– Друг мой, – ответил Йорк вполголоса, – вы теперь все поняли?.. Как бы ни были горьки ваши печали, как бы ни были жестоки ваши страдания, понимаете ли вы, что есть печали и страдания еще ужаснее?.. Эти люди дошли до апатии… они даже утратили способность кричать… Под ними нет ничего, кроме черной пропасти, раскрытой могилы, которая будет последним местом отдохновения… Над ними никакой надежды, никакой радости… И, однако же, ни один из них не хотел бы умереть… Они цепляются когтями, зубами за возможность этого мучительного существования… Эдвард, не правда ли, вы теперь оставили мысль о самоубийстве?
Эдвард тихо пожал руку поэта.
– Эти существа, – продолжал Дан, – упавшие до уровня животных вследствие лени и порока, уже более не сопротивляются, не борются с нуждой… Они пресмыкаются, и ни один даже не пытается подняться… Удары судьбы их сломили, и, упавшие в грязь, они в ней остаются… Дайте им ум, совесть, зажгите в них пламя, оживляющее ваш мозг, Эдвард, и они станут бороться, напрягать силы, чтобы подняться… Они найдут свое потерянное равновесие. Друг мой, я показал вам этих отверженных, чтоб вернуть вам самообладание. Теперь идем…
И, взяв Лонгсворда за руку, Йорк увел его из «Золотой пещеры».
– Обещаете ли вы мне бороться? – спросил он молодого человека.
Поэт Дан Йорк придумал оригинальное лечение!
При виде этих бедствий Эдвард мало-помалу утратил сознание своего собственного горя. Мозг его оцепенел, мысли уснули…
При последнем вопросе Лонгсворд будто проснулся:
– Да, да! – воскликнул он. – Я буду бороться… Я буду бороться!
– А я буду помогать вам! – продолжал Йорк. – Убежден, что вдвоем мы восторжествуем над этими подлецами!
Начало светать. Дождь перестал.
Оба друга направились к цивилизованной части города. О них можно было сказать то же, что шептали дети, когда мимо них проходил Данте Алигьери… Они возвращались из ада…