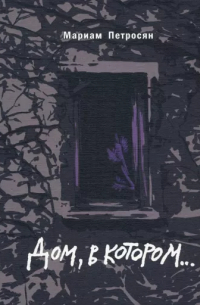Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
О цементе и непостижимых свойствах зеркал
В четвертой нет телевизора, накрахмаленных салфеток, белых полотенец, стаканов с номерами, часов, календарей, плакатов с воззваниями и чистых стен. Стены от пола до потолка расписаны и забиты полками и шкафчиками, рюкзаками и сумками, увешаны картинами, коллажами, плакатами, одеждой, сковородками, лампами, связками чеснока, перца, сушеных грибов и ягод. Со стороны это больше всего похоже на огромную свалку, карабкающуюся к потолку. Кое-какие ее фрагменты туда уже добрались и закрепились, и теперь раскачиваются на сквозняке, шелестя и позвякивая, или просто висят неподвижно.
Внизу свалку продолжает центральная кровать, составленная из четырех обычных и застеленная общим гигантским пледом. Это и спальное место, и гостиная, и просто пол, если кому-то вздумается срезать путь напрямую. На ней мне выделили участок. Кроме меня здесь ночуют Лорд, Табаки и Сфинкс, так что участок совсем маленький. Чтобы на нем заснуть, требуются специальные навыки, которые у меня еще не выработались. Через спящих в четвертой перешагивают и переползают, ставят на них тарелки и пепельницы, прислоняют к ним журналы… Магнитофон и три настенные лампы из двенадцати не выключаются никогда, и в любое время ночи кто-нибудь курит, читает, пьет кофе или чай, принимает душ или ищет чистые трусы, слушает музыку или просто шастает по комнате. После Фазаньего отбоя ровно в девять такой режим переносится с трудом, но я очень стараюсь приспособиться. Жизнь в четвертой стоит любых мучений. Здесь каждый делает что хочет и когда захочет и тратит на это столько времени, сколько считает нужным. Здесь даже воспитателя нет. Люди четвертой живут в сказке. Только чтобы понять это, надо попасть сюда из первой.
За три дня я научился:
– играть в покер;
– играть в шашки;
– спать сидя;
– есть по ночам;
– запекать картошку на электроплитке;
– курить чужие сигареты;
– не спрашивать который час.
Я так и не научился:
– варить черный кофе, не обливая плитку;
– играть на губной гармошке;
– ползать так, чтобы все, глядя на меня, не кривились;
– не задавать лишних вопросов.
Сказку портил Бандерлог Лэри. Он никак не мог смириться с моим присутствием в четвертой. Его раздражало все. Как я сижу, лежу, говорю, молчу, ем и особенно – как передвигаюсь. При одном взгляде на меня его перекашивало.
Пару дней он ограничивался тем, что обзывал меня придурком и обгаженной курицей, потом чуть не сломал мне нос якобы за то, что я сидел на его носках. Никаких носков подо мной не оказалось, зато потом все утро пришлось расписывать учителям, как я неудачно упал, пересаживаясь в коляску, и ни один из них мне не поверил.
За завтраком первая ликовала, разглядывая мою физиономию. Подозрительная таблетка от Шакала боль не сняла, зато усыпила так основательно, что с последнего урока пришлось отпроситься. Чтобы прийти в себя, я залез под душ и уснул прямо в кабинке. Оттуда меня каким-то образом перетащили в спальню.
Во сне я увидел Гомера. С выражением глубокого отвращения на лице он бил меня тапком. Потом мне приснилось, что я лиса, которую выкуривают из норы злые охотники. Они как раз вытаскивали меня за хвост, когда я проснулся.
Открыл глаза и увидел сомкнувшиеся над головой углы подушек. Между ними оставался маленький просвет, в который заглядывал желтый воздушный змей, пришпиленный к потолку. Заглядывал, потому что на нем было нарисовано лицо. Еще ко мне просачивались клубы пахнущего ванилью дыма. Так что лисьи кошмары возникли не на пустом месте.
Я примял подушку, заслонявшую обзор, и увидел Сфинкса. Он сидел рядом, хмуро рассматривая шахматную доску, на которой почти не было фигур. Большая часть их валялась вокруг доски россыпью, а несколько штук, наверняка подо мной – что-то твердое и маленькое, втыкалось в меня в самых разных местах.
– Смирись, Сфинкс, – раздался голос Шакала. – Это ничья в чистом виде. Надо смотреть фактам в лицо. Уметь, не роняя достоинства, склоняться перед обстоятельствами.
– Когда мне понадобится твой совет, я предупрежу заранее, – сказал Сфинкс.
Я пощупал нос. Он болел уже не так сильно. Должно быть, таблетка все же подействовала.
– Ой, Курильщик проснулся! Глазами шмыгает! – грязная лапка с обкусанными ногтями похлопала меня по щеке. – Есть еще порох в пороховницах фазаньего племени. А вы говорили, помер!
– По-моему, кроме тебя, никто этого не говорил, – Сфинкс склонился надо мной, рассматривая повреждения. – От такого не умирают.
– Не скажи, не скажи, – отозвался невидимый Табаки. – Фазаны, даже бывшие, на все способны. Как живут? Отчего помирают? Только им самим ведомо.
Мне надоело лежать как больному, которого все обсуждают, и я сел. Не очень прямо, но обзор существенно расширился.
Табаки в оранжевой чалме, скрепленной английской булавкой и зеленом халате, в два раза длиннее его самого, сидел на груде подушек и курил трубку. Ванильный дым, которым в моем сне терзали лисицу, расползался от него. Сфинкс, прямой и отрешенный, медитировал над шахматами. Из дыр в джинсах выглядывали острые колени. На нем был только один протез и облезлая майка, оставлявшая на виду все крепления, так что он смахивал на недособранный манекен. На подоконнике за занавеской просматривался чей-то силуэт.
– Мне снилось, что я лиса, – сказал я, отмахиваясь от сладкого дыма. – Меня как раз выкурили из норы, когда я проснулся.
Табаки переложил трубку в левую руку и поднял указательный палец:
– В любом сне, детка, главное – вовремя проснуться. Я рад, что тебе это удалось.
И он запел одну из своих жутких, заунывных песен, от которых у меня мурашки бегали по коже. С повторяющимся до одурения припевом. Обычно в них воспевались либо дождь, либо ветер, но на этот раз, в порядке исключения, это был дым, струящийся над пепелищем какого-то сгоревшего дотла здания.
Силуэт на подоконнике закопошился, плотнее задергивая занавеску, чтобы отгородиться от шакальих завываний, и по нервозности движений я угадал в нем Лорда.
Эгей, эгей… только серый дым, да воронье… Эгей, эгей, не осталось ничего…
Сфинкс неожиданно ткнулся лицом в одеяло, как будто клюнул его, потом выпрямился, мотнул головой, и в меня полетела пачка сигарет.
– Кури, – сказал он. – Успокаивай нервы.
– Спасибо, – ответил я, рассматривая пачку. Следов от зубов на ней не было. Слюны вроде бы тоже. Я выскреб из нее сигарету, поймал зажигалку, брошенную Шакалом, и опять сказал спасибо.
– Вежливый! – восхитился Табаки. – Как приятно!
Он закопошился. Долго перетряхивал полы халата, роняя на глаза чалму, и наконец выудил откуда-то из его складок стеклянную пепельницу, полную окурков.
– Вот. Нашел. Держи! – и запустил ею в меня, хотя сидел так близко, что вполне мог передать из рук в руки.
В полете пепельница растеряла свое содержимое, и по пледу запестрела дорожка из окурков. Я отряхнулся и закурил.
– А спасибо? – обиделся Шакал.
– Спасибо, – сказал я. – Спасибо, что промахнулся!
– Не за что, – с удовольствием ответил он. – Не стоит благодарности!
И он с удвоенной энергией затянул свое жуткое «эгей».
Сфинкс сказал, что согласен на ничью.
– Давно пора, – отозвался мягкий голос из-за спинки кровати. Раздвинув висевшие на ней сумки и пакеты, к нам взобралась белая, длиннопалая рука, перевернула доску и начала собирать в нее шахматные фигурки.
Эгей, эгей… почерневшие кастрюльки! Эгей, эгей, каркас медвежьего чучела… при жизни оно было вешалкой…
– Заткните кто-нибудь этого извращенца! – взмолился Лорд с подоконника.
Я как завороженный следил за рукой Слепого. Кроме того, что пальцы ее были невозможно длинными и гнулись, как нормальные пальцы не сгибаются, если их не сломать, она была еще какой-то неприятно одушевленной. Странствовала по пледу, скользила, перебирала пальцами-щупальцами, только что не принюхивалась. Я вытащил из-под себя белую туру, буравившую мне зад, и осторожно положил перед ней. Рука остановилась, пошевелила средним усиком и, поразмыслив, стремительно ее сцапала. Я вздрогнул и поспешно принялся нашаривать остальные завалившиеся под меня фигурки, потому что вдруг возникло нехорошее ощущение, что, не сделай я этого, хищная рука проберется туда и достанет их сама. Сфинкс наблюдал за мной с усмешкой.
Эгей, эгей… почерневший кулон! Ворона унесет его своим воронятам… славную игрушку, своим воронятам…
Лорд отдернул занавеску и стек с подоконника. С большим шумом, чем обычно, но я, глядя на него, и так чуть не заплакал от зависти.
– Не таращься зря, – посоветовал мне Табаки. – Все равно у тебя так не получится.
– Знаю. Мне просто интересно.
Шакал закашлялся и посмотрел на меня со значением. Как будто о чем-то предупреждая.
– Пусть тебе лучше не будет интересно.
Я не успел спросить почему, а Лорд уже влез на общую кровать. Я залюбовался его отточенными движениями. Табаки ползал, Лорд швырял себя вперед. Сначала забрасывал ноги, потом прыгал за ними на руках. На самом деле не очень приятное зрелище, а если замедлить, так и вовсе жутковатое. Но не для колясника. Кроме того, Лорд делал все так быстро, что и отследить не всегда удавалось. Я восхищался и смертельно завидовал, понимая, что мне такое не светит. Я не был акробатом. Табаки передвигался так же стремительно, но он был в два раза легче и ноги его слушались, так что от вида ползавшего Табаки я не впадал в депрессию.
Очутившись на кровати, Лорд уставился на Шакала с кровожадным ожиданием. Ясно было, что еще одно «эгей», и Табаки придется худо. Он и сам это понял и сказал примирительно:
– Ну что ты, Лорд, так нервничаешь? Песня уже закончилась.
– Слава богу! – фыркнул Лорд. – А то мог бы закончиться ты!
Табаки изобразил испуг:
– Какие страшные слова, по такому ничтожному поводу! Опомнись, дорогуша! – Чалма съехала, прикрыв ему глаз. Он поправил ее и начал раскуривать погасшую трубку.
На полу зашумела кофеварка. Я отодвинул рюкзак и плетеную сумку, висевшие на спинке кровати.
По ту сторону прутьев на полу сидел Слепой. Черные волосы на белом лице, как занавеска. Серебряные глаза мертво сквозь них просвечивали. Он курил и выглядел совершенно расслабленным. Шарившая по кровати рука, уже заканчивавшая уборку шахмат, будто и не имела к нему отношения. Пока я смотрел на него, она как раз вернулась, и Слепой, зажав сигарету в зубах, быстро погладил ее. Все так и было, мне не померещилось.
Хлопнула дверь.
Застучали каблуки.
Настроение сразу упало. С таким грохотом и стуком в спальню входил только Лэри. Я уронил обратно рюкзак и сумку-плетенку, потеряв из виду Слепого, и затаился. Не спрятался, конечно, скорее, замер, и не потому, что испугался. Просто в присутствии Лэри на меня нападал ступор. Слишком уж злобно он реагировал на любые признаки жизни с моей стороны.
Тощий, косоватый и какой-то всклокоченный, он встал возле кровати, уставившись на Шакала. Сказал: «Вот так вот», – и сел, будто сломался. Вид у него был до того потерянный, что Табаки поперхнулся дымом.
– Господи, Лэри! – пискнул он встревоженно. – Что стряслось?
Лэри посмотрел с иронией.
– Все то же самое. Мне хватает.
– А-а, – Табаки поправил чалму, мгновенно успокоившись. – А я было подумал, что-то новое.
Лэри хрюкнул. Это был очень выразительный звук. Демонстративный. Лорд, нервно реагировавший на любого рода звуки, попросил его вести себя потише.
– Потише? – Лэри как будто не поверил своим ушам. – Еще тише? Тише, чем мы, ведут себя только покойники! Мы здесь самые тихони, самые смирные ребята! На нас на всех скоро трава вырастет, такие мы тихие…
– Не заводись, – поморщился Лорд. – Я имел в виду конкретно тебя. Конкретно в данный момент.
– А-а, ну да! – вскинулся Лэри. – Мы живем данным моментом, а то как же! Только данный момент, ни туда ни сюда. Ни о чем, кроме данного момента, и говорить не стоит. Нам даже часов носить нельзя, вдруг подумаем на пару минут вперед!
– Он хочет драки, – перевел Табаки Лорду. – Хочет кровавого избиения. Упасть между кроватями бездыханным и ни о чем больше не беспокоиться.
Лорд оторвался от шлифовки ногтей пилкой:
– Это мы ему запросто организуем.
Лэри уставился на пилку в руках Лорда и чем-то она ему очень не понравилась, потому что он передумал насчет драки.
– Я не завожусь, – сказал он. – Походите с мое в коридорах, вам тоже худо станет. Знаете, какая в Доме обстановка?
– Хватит, Лэри, – сказал Сфинкс. – Ты уже плешь всем проел своей обстановкой. Уймись.
Лэри так трясло, что его дрожь передавалась мне через матрас. Я не понимал, почему ему не дают высказаться. Мне казалось, его бы это немного успокоило. Неприятно сидеть рядом с человеком, которого трясет от каких-то непонятных переживаний. Особенно если это Бандерлог.
Возле кровати возник Македонский – услужливая тень в сером свитере. Раздал всем кофе с подноса и исчез. То ли присел за спинкой, то ли слился со стеной. Чашка обожгла ладони, и я ненадолго отвлекся от Лэри, поэтому для меня стало полной неожиданностью, когда он переключился на меня.
– Вот, – дрожащий палец с отрощенным ногтем уперся мне в лоб. – Из-за этой вот сущности мы и сидим в дерьме! Кофе в постель подаем вместо того, чтобы в цемент его закатать!
Табаки захлебнулся от восторга.
– Лэри, что ты мелешь, Лэри? – взвизгнул он. – Что ты несешь, дорогуша? Как бы ты проделал эту операцию? Где брать цемент? В чем его разводить? Как макать туда Курильщика и что с ним делать потом? Топить цементную статую в унитазе?
– Заткнись, козявка! – заорал Лэри. – Ты-то хоть помолчал бы раз в жизни!
– А то что? – изумился Шакал. – Свистнешь братьям-Логам, и они втащат сюда чан с жидким цементом и формочку для ног? Ответь мне только на один вопрос, дружище. Почему ты с такими наклонностями никак не научишься варить макароны?
– Потому что катись в задницу, придурок хренов!
Воплем Лэри со шкафа смело ворону.
Смело и зашвырнуло на стол у окна. И не ее одну. В свободное время Нанетта любила раздирать в клочки старые газеты. Эта мозаика из кусочков взлетела вместе с ней и засыпала все вокруг безобразным бурым снегом. Два клочка очутились в моем кофе.
Потом очень близко очутилось лицо Лэри с дико косящим левым глазом, а потом произошло сразу много всего.
Мне ошпарило руку. Ворот рубашки скрутился и сдавил мне горло. Потолок завертелся. Он вертелся вместе с желтым змеем, пустой птичьей клеткой, деревянным колесом и последними газетными снежинками. Это было совершенно тошнотворное зрелище, и я закрыл глаза, чтобы его не видеть. Каким-то чудом меня все же не стошнило. Я лежал на спине, глотая слюну с кровью и сдерживаясь изо всех сил.
Табаки усадил меня, заботливо поинтересовавшись, как я себя чувствую.
Я не ответил. Кое-как свел в фокус окружающие лица. Лэри среди них не было. Я не сомневался, что на этот раз он уж точно сломал мне челюсть. Слезы катились градом, но больше всего мучила не боль, а милая заботливость окружающих. Они вели себя так, как будто на меня рухнуло что-то тяжелое.
Табаки предложил еще одну чудо-таблетку Сфинкс попросил Македонского принести мокрую тряпку. Слепой возник из-за спинки кровати и спросил, сильно ли у меня кружится голова. Ни один из них не вступился за меня вовремя. Никто даже не сказал Лэри, что он скотина. От такого отношения пропало всякое желание общаться с ними и отвечать на вопросы. Я старался ни на кого не смотреть. Кое-как добрался до края кровати и попросил коляску. Совершенно невнятно, но Македонский тут же ее пригнал. Потом помог мне пересесть.
В туалете я умылся, стараясь не дотрагиваться до больных мест, и остался сидеть перед раковиной. Возвращаться не хотелось. Знакомое чувство. В первой со мной это часто случалось, но там никому не давали уединиться надолго. Здесь на такие вещи не обращали внимания, можно было торчать где угодно до глубокой ночи.
Туалет был точно такой же, как у первой. Только более обшарпанный. Трещин здесь было больше, и в паре мест кафель осыпался, обнажив трубы. Дверцы кабинок украшали облупившиеся наклейки. И почти каждая плитка кафеля была исписана фломастером. Надписи не держались, размазывались и тускнели, и из-за этой их текучести туалет четвертой оставлял странное впечатление. Исчезающего места. Места, которое отчаянно пытается что-то сообщить, тая при этом и растекаясь. Надписи, кстати невозможно было читать. Я пробовал. Они были вполне разборчивые, но абсолютно бессмысленные. От них падало настроение. Я обычно читал все время одну и ту же, аркой расположившуюся над низкой раковиной. «Не надо выходить за дверь, чтоб знать событий суть. Не надо из окна…» Дальше надпись плыла и разобрать можно было только самый конец – «цзы». Меня жутко раздражало, что я ее то и дело невольно перечитываю, и хотелось потихоньку стереть ее губкой, но я никак не мог решиться. Ведь тогда пришлось бы писать на пустом месте что-то новое.
Я подъехал к раковине с надписью. Край ее был покрыт коркой зубной пасты, а сток забили ошметки пены с мелкими противными волосками. Волоски были черные. Налюбовавшись ими, я отъехал к соседней раковине, тоже низкой. Среди колясников четвертой брюнетов не было. Напрашивался вывод, что кто-то из ходячих не поленился бриться, согнувшись в три погибели, лишь бы порадовать нас своим свинством. Нас – это, скорее всего, меня.
Пришел Македонский.
Принес еще одну чашку с кофе и пепельницу. Поставил их на край раковины рядом с мыльницей. Положил в пепельницу сигарету и зажигалку. Из рукавов свитера на секунду высунулись жутко, в кровь обкусанные пальцы – и тут же спрятались. Рукава у него свисали, как у Пьеро, он еще прихватывал их изнутри, чтобы не соскальзывали.
– Спасибо, – сказал я.
– Не за что, – ответил он уже в дверях. И исчез.
Так я выяснил про него сразу две вещи. Что он умеет разговаривать и ест сам себя.
Услужливость Македонского больше пугала, чем радовала. Вспоминались мерзкие фазаньи байки о том, как в других группах обращаются с новичками, делая из них рабов. Я никогда в это не верил, но Македонский как будто вылез из этих историй – живой человек из дурацких страшилок. Он вел себя так, что не верить становилось намного труднее.
Что я, в сущности, знал о четвертой? Что со мной они, не считая Лэри, вели себя нормально. И казались слишком симпатичными для тех безобразий, что им приписывались. Но, может, дело было во мне? Кому нужен слуга-колясник? Что с него взять? Он себя еле успевает обслужить. Другое дело – ходячий. Например, Македонский. Добравшись до этой мысли, я понял, что отравлен Фазанами насмерть. На всю оставшуюся жизнь.
Стало совсем тошно. Я посмотрел в зеркало. На свой опухший нос и посиневшую челюсть. Пощупал синяк, надавив на него посильнее, и, глядя в глаза своему отражению, неожиданно разрыдался.
Меня потрясла легкость, с какой потекли слезы. Как будто я был всегда готовым разреветься плаксой. Я сидел с чашкой кофе в руке, пялился на себя в зеркале, плакал и не мог остановиться. Чтобы собрать все сопли, которые из меня вытекли, пришлось отмотать полметра бумажного полотенца. Высморкавшись, я увидел в зеркале Сфинкса.
Не лицо, он был слишком высок для рассчитанного на колясника зеркала. Но и без выражения его лица было понятно, что сопли он застал.
Оборачиваться не хотелось, и я решил сделать вид, что не заметил его. Отставил чашку и долго умывался. Целую вечность. Когда я наконец вытер лицо, то увидел, что он стоит, где стоял, и понял, что зря понадеялся на его тактичность. Пришлось делать вид, что обнаружил его только сейчас.
Сфинкс был в том же полуразобранном виде, только набросил на плечи рубашку. У рубашки был такой вид, как будто ее стирали в отбеливателе, джинсы выглядели не лучше, а в целом все смотрелось замечательно. Сфинкс был из тех типов, на которых любая рвань выглядит прилично и кажется жутко дорогой, уж не знаю, как у них это получается.
– Больно? – спросил он.
– Немного.
Чтобы не смотреть в его безбровое лицо, я сосредоточился на кроссовках. Стоптанных. С обмотанными вокруг щиколоток шнурками. Мои были намного круче.
– До слез? – уточнил он.
Да. Тактичным он был в самую распоследнюю очередь.
– Нет, конечно, – выдавил я, понимая, до чего наивно было рассчитывать, что он промолчит. Так же наивно, как думать, что он уберется, чтобы не смущать меня. Сейчас начнет расспрашивать, что меня так расстроило.
– Твой кофе остыл, – сказал он.
Я пощупал чашку. Она была еще теплая.
Сфинкс стоял у меня за спиной, и в зеркале его видно не было. Оттого что я его не видел, оттого что он так ни о чем и не спросил, оттого что я не знал, что отвечать, если спросит, а он не спрашивал, от всего этого меня вдруг прорвало. Слова потекли неудержимым потоком, как раньше слезы.
– Я Фазан, – сказал я своему опухшему отражению. – Долбаный Фазан. Не могу спокойно пить кофе, получив по морде. А самое интересное, знаешь, что? Что Лэри меня им не считает. Обзывает Фазаном, а сам в это не верит. Иначе не стал бы бить. Ни один Фазан такого не стерпит. Тут же настучит. Получается, с одной стороны, он ненавидит меня за то, что я Фазан, а с другой, полагается на то, что я не Фазан. Здорово, правда? А вдруг я сейчас возьму и поеду к Акуле?
Я потрогал лицо. Кровоподтек распухал на глазах. К ужину превратится в здоровенный блин на пол-лица. На радость первой.
– Можно замазать тональным кремом, – предложил Сфинкс. – Он в левом шкафчике.
Я разозлился. Он так уверен, что мне хочется спрятать этот синяк. И Лэри тоже. А может, я, наоборот, хочу выставить его напоказ. Рассказать всем, откуда он взялся, и посмотреть, что из этого выйдет. Это были до того фазаньи мысли, что я даже слегка испугался.
– Я действительно, наверное, поеду к Акуле, – сказал я из чистого упрямства.
Сфинкс подошел к соседней раковине и сел на нее, нога на ногу, как на стул. Сразу подумалось, что сейчас он измажется зубной пастой, и еще – можно ли выглядеть стильно с пятнами на заду?
– Прямо сейчас? – спросил он.
– Что?
– Прямо сейчас поедешь?
Я промолчал. Никуда я не собирался ехать, но он мог хотя бы сделать вид, что поверил. И поотговаривать.
– Я пошутил, – сказал я мрачно.
– Зачем? – спросил Сфинкс.
Не дождавшись от меня ответа, он ответил себе сам:
– Ясное дело, ты хотел, чтобы вначале тебя отговорили. А дальше? Может, ты хотел меня припугнуть? Но почему меня, а не Лэри? А может, ты надеешься заручиться моей поддержкой на будущее? Что-нибудь вроде обещания оберегать тебя от Лэри. Извини, но такого обещания я дать не могу. Я тебе не нянька.
Я почувствовал, что горю от пяток до кончиков ушей. В пересказе Сфинкса то, как я себя вел, выглядело невозможно жалко. И слишком похоже на правду. Только я не думал об этом такими словами.
– Хватит, – попросил я. – Довольно.
Сфинкс заморгал.
– Погоди, – сказал он. – Я не могу ничего обещать, но могу найти сейчас Лэри и рассказать, какого труда стоило отговорить тебя от поездки к Акуле. Он мне поверит и больше тебя не тронет. Это все, что я могу сделать. Если такой вариант тебя устраивает.
– Устраивает, – поспешно согласился я. – Он меня устраивает.
Я чуть не признался, что на самом деле просто хотел его позлить, но вовремя прикусил язык. Цапнул сигарету, оставленную Македонским, щелкнул зажигалкой и так затянулся, что чуть глаза не выскочили. Побитое существо в зеркале отразило мой жадный жест и стало неловко за него и за себя.
– Скажи, пожалуйста, Курильщик, почему ты не сопротивляешься, когда тебя бьют?
Я поперхнулся дымом:
– Кто, я?
– Ну да.
Кран за спиной у Сфинкса подтекал, и подол рубашки промок. Светло-бирюзовая рубашка сделала его глаза еще зеленее. Обычно очень прямой, он сидел сгорбившись и смотрел этими своими глазами водяного так, будто хотел вытащить из меня всю душу. Выскрести ее и досконально обследовать.
– Почему ты позволяешь себя бить?
Вроде бы он не издевался. Хотя сказанное звучало издевкой. Я представил, как я сопротивляюсь. Как визжу и отмахиваюсь от Лэри. Да он просто умрет от счастья. Неужели Сфинкс этого не понимает? Или он куда лучшего мнения обо мне, чем я сам.
– По-твоему, это что-то даст?
– Больше, чем ты думаешь.
– Ага. Лэри так развеселится, что ослабеет и не сможет махать кулаками.
– Или так удивится, что перестанет считать тебя Фазаном.
Кажется, он верил тому, что говорил. Я даже не смог рассердиться по-настоящему.
– Брось, Сфинкс, – сказал я. – Это просто смешно. Что я, по-твоему, должен успеть сделать? Оцарапать ему колено?
– Да что угодно. Даже Толстый может укусить, когда его обижают. А у тебя в руках была чашка с горячим кофе. Ты, кажется, даже обжегся им, когда падал.
– Я должен был облить его своим кофе?
Сфинкс прикрыл глаза.
– Лучше так, чем обжигаться самому.
– Ясно, – сказал я, с силой вдавив окурок в пепельницу. Она перевернулась, и я едва успел ее подхватить. – Вам не хватает развлечений. Вы бы с удовольствием понаблюдали, как я молочу Лэри кулаками, кусаю его за палец и расплескиваю кофе по всей кровати. Может, Табаки даже сложил бы об этом песню. Спасибо за совет, Сфинкс! Прямо не знаю, как тебя за него благодарить!
Сфинкс вдруг соскочил со своего насеста, быстро подошел и уставился на меня в зеркало. Для этого ему пришлось нагнуться, как будто он заглядывал к кому-то в низкое окошко.
– Пожалуйста, – сказал он этому кому-то. – Не стоит благодарности. Этот же совет мог бы дать тебе сам Лэри.
Я так перетрусил, когда он вдруг сорвался с места, что проглотил все ругательства, вертевшиеся на языке.
– Точно, – согласился я. – Ему бы это ничем не угрожало.
Сфинкс кивнул.
– И дало бы наконец возможность оставить тебя в покое. Знаешь, почему Логи так цепляются к Фазанам? Потому что они никогда не сопротивляются. Ни по-крупному, ни в мелочах. Покорно зажмуриваются и переворачиваются кверху колесами. И пока ты будешь вести себя так же, Лэри не перестанет видеть в тебе Фазана.
– Ты же сказал, что припугнешь его.
Сфинкс продолжал гипнотизировать мое отражение. Которое выглядело чем дальше, тем хуже.
– Сказал. И припугну. Мне не трудно.
У меня голова шла кругом от его повадок. Казалось, что нас тут трое.
– Хватит разговаривать с зеркалом, Сфинкс! – не выдержал я. – Я там какой-то неправильный!
– Ага, ты тоже заметил?
Он наконец обернулся, рассеянно, как будто действительно говорил не со мной, а я его отвлек. Потом поймал меня в фокус, и это оказалось еще неприятнее. Даже голова разболелась.
– Ладно, – сказал он. – Забудем того тебя, который живет в зеркале.
– По-твоему, это не я?
– Ты. Но не совсем. Это ты, искаженный собственным восприятием. В зеркалах мы все хуже, чем на самом деле, не замечал?
– Нет. Мне и в голову не приходило.
Я вдруг сообразил, какую мы порем чушь:
– Хватит валять дурака, Сфинкс. Это не смешно.
Сфинкс засмеялся.
– Смешно, – сказал он. – Честное слово, смешно. Как только ты начинаешь что-то понимать, первая твоя реакция – вытряхнуть из себя это понимание.
– Я ничего никуда не вытряхивал.
– Посмотри туда, – Сфинкс кивнул на зеркало. – Что ты видишь?
– Жалкого урода в синяках, – отозвался я мрачно. – Что еще я могу там увидеть?
– Тебе пока лучше избегать зеркал, Курильщик. По крайней мере, пока не перестанешь себя жалеть. Поговори-ка об этом с Лордом. Он вообще никогда не смотрится в зеркало.
– Почему? – изумился я. – Если бы я видел в зеркале то, что видит он…
– Откуда ты знаешь, что он там видит?
Я попробовал представить себя Лордом. Смотрящимся в зеркало. Это угрожало мощнейшим приступом нарциссизма.
– Он видит что-то вроде молодого Боуи. Только красивее. Будь я похож на Боуи, я бы…
– …стонал, что похож на престарелую Марлен Дитрих и мечтал походить на Тайсона, – подсказал Сфинкс. – Цитирую дословно, так что не считай это преувеличением. То, что видит в зеркале Лорд, вовсе не похоже на то, что, глядя на него, видишь ты. И это лишь один пример того, как странно иногда ведут себя отражения.
– Ага, – вяло кивнул я. – Понятно.
– Да? – удивился Сфинкс. – А вот мне не очень. Хотя я всегда этим интересовался.
Мне вдруг захотелось кое о чем его спросить. Этот вопрос давно меня мучил.
– Скажи, Сфинкс, а Македонский… почему он такой? Вы отдали его на съеденье Лэри? Или он таким и был с самого начала?
– Каким – таким? – поморщился Сфинкс.
– Ну таким. Услужливым.
– А-а, и ты туда же, – протянул он. – Что мы с ним такого ужасного сотворили? Ничего. Но ты мне не веришь, так что я зря тебе это сказал.
Я и не поверил. Абсолютно.
– Почему он всегда за всеми убирает? Все всем подает? Ему это нравится?
– Не знаю почему. Догадываюсь, но не знаю точно. Одно могу сказать – это не наша заслуга.
Должно быть, выражение моего лица было очень красноречиво.
Сфинкс вздохнул.
– Он видит в этом свое предназначение. Так мне кажется. Его предыдущая работа была намного тяжелее. Он работал ангелом, и это его достало. Так что теперь он изо всех сил старается доказать свою полезность в любом другом качестве.
– Кем-кем он работал?
Меньше всего я ожидал таких дурачеств от Сфинкса. Как-то само собой разумелось, что это область Табаки. Но у Сфинкса был свой стиль. Он не стал развивать тему.
– Ты расслышал, – сказал он. – Я не буду повторять.
– Ага, – пробормотал я. – Ладно.
– Приглядись. И увидишь, что он всегда старается опередить наши просьбы. Сделать что-то раньше, чем его попросят. Он вообще не любит, когда с ним заговаривают. Это его овеществляет.
– Как-как? – не понял я.
– Не лю-бит, – повторил Сфинкс по слогам. – Когда его замечают. Заговаривают. О чем-то спрашивают, обращают на него внимание. Его от этого коробит.
– Откуда ты знаешь? Он сам сказал?
– Нет. Просто я живу рядом.
Сфинкс нагнулся и почесал лодыжку протезом, как палкой.
– Он любит мед и грецкие орехи. Газировку, бродячих собак, полосатые тенты, круглые камни, поношенную одежду, кофе без сахара, телескопы и подушку на лице, когда спит. Не любит, когда ему смотрят в глаза или на руки, когда дует сильный ветер и облетает тополиный пух, не выносит одежду белого цвета, лимоны и запах ромашек. И все это видно любому, кто даст себе труд приглядеться.
Я не стал говорить, что живу в четвертой слишком недолго, чтобы высмотреть в самом скрытном человеке в Доме такие подробности. Вместо этого я сказал:
– Знаешь, Сфинкс, не надо про меня ничего говорить Лэри. Я передумал.
Он вдруг опять нагнулся к зеркалу:
– Почему?
– Это ведь ты предложил. А я не хочу, чтобы он считал меня стукачом.
– Да?
Сфинкс как будто не доверял моему отражению. Вид у которого был действительно неприятный. Затаенно стукаческий. Растерзанный и подленький. При этом сам я ничего такого не ощущал.
– Да, – сказал я, все сильнее нервничая. – Не хочу быть стукачом ни в шутку ни всерьез. И ты обещал забыть про мое отражение!
Сфинкс посмотрел через плечо. Словно сравнивая.
– Да. Но меня притягивают метаморфозы. Извини. Больше не буду. Значит, Лэри ничего не говорить? От твоих гарантий останется пшик.
– Ну и черт с ними!
Я вздохнул с облегчением. Я был почти уверен, что сделал все правильно. Причем в самый последний момент, когда еще чуть-чуть – и было бы поздно. Это было как-то связано с зазеркальным Курильщиком – очень неприятным человеком. Может, даже давним и заслуженным стукачом. Вообще наше со Сфинксом общение в туалетах потихоньку становилось традицией. Я и он в окружении раковин и писсуаров. Разговор – а потом все меняется, переворачивается с ног на голову. Почему-то мне казалось, что в этот раз такого переворота не будет. Что мне удалось его избежать.
Сфинкс рассматривал свои джинсы, наконец-то озаботившись их состоянием.
– Лэри все же не мешало бы попугать. Всю раковину вымазал…
– Откуда ты знаешь, что это он?
– Кто же еще? Кнопка в постели, жвачка в ботинке, паста на раковине – его масштаб. Табаки так не работает. После шуток Шакала пол-Дома лежит в руинах. Он по мелочам не разменивается. Так что это Лэри. В сущности, как видишь, он еще дитя.
Я рассмеялся:
– Дитя, которое бреется.
– Что тебя удивляет? Довольно распространенное явление.
Он нагнулся и опять, морщась, почесал ногу.
– Да что ты все чешешься? – не выдержал я.
– Блохи. Явно они. До тебя еще не добрались? Странно.
– Блохи? – растерялся я. – От Нанетты?
– Если бы от Нанетты. Была бы надежда их вывести. А то Слепой притаскивает. Не травить же вожака морилкой. И блохи – еще не самое страшное. Иногда он приносит на себе клещей. Посреди зимы. И не одного, а нескольких видов. Ты когда-нибудь снимал с себя клеща? Главное – не дергать, чтобы не оставить головку.
– Сфинкс, ты шутишь? – не выдержал я.
– Шучу, – сказал он серьезно. – Я вообще шутник, ты не заметил?
– Почему бы просто не сказать человеку, чтобы он заткнулся, если его вопросы раздражают? Зачем изощряться?
Сфинкс не ответил. Вздохнул, еще раз почесался и ушел. В мокрой по пояс рубашке, с пятнами зубной пасты на заду. Паста не просматривалась, а мокрая рубашка только придала ему крутизны. Так что дело было не в одежде, а в Сфинксе. В его самоощущении.
Я уставился на свое отражение.
Зазеркальный Курильщик выглядел чуть получше, но все равно казался подловатым. Я приосанился, и он стал похож на придурка. С самоощущением дела у меня обстояли хреново.
– Ладно, – сказал я. – В конце концов Лорд себе в зеркале тоже не нравится.
Я допил окончательно остывший кофе и поехал в спальню.
Дом – это стены и стены осыпающейся штукатурки… Узкие переходы лестничных маршей. Мошкара, танцующая под балконными фонарями. Розовые рассветы сквозь марлевые занавески. Мел и замусоренные парты. Солнце, тающее в красной пыли дворового прямоугольника. Блохастые собаки, дремлющие под скамейками. Ржавые трубы, перекрещивающиеся и свивающиеся в спирали под треснувшей кожей стен. Неровные ряды детских ботинок со скошенными носами, выстроенные вдоль кроватей. Дом – это мальчик, убегающий в пустоту коридоров. Засыпающий на уроках, пятнистый от синяков, состоящий из множества кличек. Головоног и Скакун. Кузнечик и Хвост. Хвост Слепого, не отстающий от него ни на шаг, наступающий на его тень. К входящему Дом поворачивается острым углом. Это угол, об который разбиваешься до крови. Потом можно войти.
Их было тринадцать. Их называли «безобразием», «сворой» и «молокососами». Они были категорически не согласны с последним прозвищем. Сами они называли себя стаей. Как у всякой стаи, у них был вожак.
Вожаку уже исполнилось десять. Он носил кличку Спортсмен, был белокур, розовощек, голубоглаз, на голову выше остальных, если не считать Слона. Он спал на взрослой кровати, и у него не было ни видимых увечий, ни тайных болезней, ни прыщей, ни комплексов, ни страсти к коллекционированию – ничего из того, что было у каждого из них. Для Дома он был слишком хорош.
Хромых близнецов Рекса и Макса называли Сиамцами, отдельных кличек у них не было. Длиннолицые, костлявые и желтоглазые, с тремя ногами на двоих, одинаковые, как две половинки лимона, неразлучные и неразличимые – две вороватые тени с карманами, набитыми ключами и отмычками. Проникающие в любую дверь. Уносящие все, что лежит без присмотра.
Лохматый Горбач любил военные марши и мечтал стать пиратом. Летом он чернел, превращаясь в сутулого вороненка, и находил на себе насекомых. Собаки чуяли его нежность издалека и сбегались принять ее. От его рук пахло псиной, а в карманах он прятал хлеб и колбасу для четвероногих друзей.
Зануда и Плакса были неразлучны, как Сиамцы, но внешне отличались. Плакса с бледными глазами навыкате смахивал на нервного богомола. Глубоко посаженные глазки Зануды делали его похожим на крысенка. Оба страдали дислексией и увлекались коллекционированием. Они собирали гайки, болты и шурупы, перочиные ножи и этикетки от бутылок, а вершиной их достижений была уникальная коллекция отпечатков пальцев.
Кролик был альбиносом, носил привязанные к ушам темные очки и тяжелые ортопедические ботинки. Он всегда знал, какая река где течет и куда впадает. Он знал множество городов с непроизносимыми названиями, мог перечислить их главные улицы и сообщить, как попасть с одной на другую. Он знал, где что производят и как это отражается на бюджете страны-производителя. Знания Кролика ценили многие, но мало кто его за них уважал. Передние зубы выдавались вперед, делая его похожим на грызуна. Им он и был обязан своей кличкой.
Красавица – невозможно красивый черноглазый мальчик – стыдился своих рук и ног и всегда молчал. Руки и ноги его не слушались. Ноги несли не туда, куда он хотел идти, руки роняли то, что он хотел удержать. Он часто падал и был покрыт синяками, которых тоже стыдился.
Круглоголовый Пылесос был помешан на сокровищах. Он находил их повсюду. То, что было сокровищем для Пылесоса, другие назвали бы мусором. За девять лет жизни Пылесос скопил много всего, заполнив двенадцать тайников и один чемодан, и теперь, помимо поисков сокровищ, занимался их ежедневным переучетом.
Кудрявый Пышка был толст и нахален, любил наряжаться и придумывать себе красивые одеяния. Гардероб его занимал много места и нервировал окружающих. Нос Пышки терялся в щеках, а щеки – в плечах. Воспитательницы его обожали и называли Купидончиком.
Крючок был согнут зловредной болезнью и ходил боком. Голову его поддерживал гипсовый ворот. Это не мешало Крючку быстро бегать. Крючок коллекционировал бабочек и летом, в разгар охотничьего сезона, не расставался с сачком и банкой с марлевой крышкой.
Слон был огромен, застенчив и робок. Он носил резиновые игрушки в карманах комбинезона и плакал, если его оставляли одного. На голове Слона рос белый пух. Он считался в стае самым маленьким, хотя мало кто доставал макушкой до его подбородка.
Пузырь, по общему мнению, был не совсем нормален. Всегда и всюду на роликах. Уши его ловили ветер, полнота спасала при столкновениях. Сам он называл себя Вольным Вихрем и боялся только одного – порчи роликов. Он пережил уже семь пар и всякий раз горько плакал, расставаясь с очередной. Под кроватью у него хранилась коробка с разбитыми колесиками старых друзей.
Стая Спортсмена занимала две спальни в самом конце коридора. Ту, что была побольше, называли Хламовником. Хламовник редко посещался воспитателями и редко прибирался. Сокровища Пылесоса хранились в неподходящих местах и вываливались, стоило неудачно к чему-нибудь прислониться. Игрушки Слона, замусоленные его зубами, собирали пыль под кроватями. Колюще-режущие коллекции Зануды и Плаксы гнездились на подоконнике. Коллекции этикеток украшали стены, чередуясь с засушенными бабочками Крючка. Одежда Пышки не умещалась в общем шкафу, расползаясь по стульям и спинкам кроватей. Под кроватью Горбача жил дурно пахнущий хомяк. Над кроватью Сиамца Макса росло непонятное растение в подвесном горшке. В шкафу хранилось самодельное оружие, иногда выпадавшее оттуда с деревянным стуком.
Хомяка выпускали погулять. Растение протекало коричневой водой. Этикетки падали со стен и исчезали в тайниках Пылесоса. Никакие уборки не могли спасти Хламовник от захламления.
Стая была стаей, пока напоминала о себе окружающим. Разбитыми стеклами, надписями на стенах, мышами в учительских столах, курением в туалетах. Дурная слава делала их счастливыми и обособляла от главных врагов – колясников. Но самым любимым развлечением стаи были новички. Мамины детки, пахнущие Наружностью, плаксы и нытики, недостойные кличек. С новичками можно было развлекаться множеством способов. Можно было пугать их пауками и гусеницами. Можно было давить их подушками и засовывать в шкафы. Выскакивать на них из-за углов и кричать в уши. Подсыпать им в обед перец и соду. Приклеивать их одежду к стульям и отрезать от нее пуговицы. Можно было их просто лупить.
Ничуть не хуже можно было развлечься с незрячими, заступающимися за новичков. Натянутые на дороге веревки, переставленные тумбочки и кровати, надписи на одежде. Двери, заблокированные стульями; кнопки, рассыпанные под ногами, и надежно спрятанные кеды; пропадающие вещи, и другие, появляющиеся взамен пропавших. Много чего можно придумать, если умеешь думать о таких вещах. Стая умела.
– Вот они! Бей! Ату их! – визжали мальчишки, проносясь по коридору пестрой лавиной. Глаза их сверкали охотничьим азартом, потные ладони сжимались в кулаки.
– Ура! – завопили они, загоняя свои жертвы в угол.
Жертвы – Кузнечик и Слепой – приготовились к бою. С равным успехом они могли к нему не готовиться. Визжащая лавина молотящих рук и пинающих ног нахлынула на них, смела, протащила по полу и, потрепав, откатилась. Охотники убегали, размахивая трофейными клочьями одежды и оглашая воздух пронзительным свистом. Хромой Сиамец не поспевал за остальными. Когда топот стих в глубине коридора, Слепой встал и отряхнулся.
– Мда, – сказал он. – Численное преимущество по-прежнему на их стороне.
Уткнувшийся лицом в колени Кузнечик промолчал. Слепой присел рядом с ним.
– Перестань, – попросил он. – Сегодня их было уже меньше, ты не заметил? Удалось кому-нибудь врезать?
– Удалось, – мрачно ответил Кузнечик, не поднимая головы. – Но толку от этого все равно никакого.
– Это тебе так кажется, – Слепой пощупал опухшую щеку и поморщился. – Толк есть, – сказал он уверенно. – Сегодня с ними не было Макса, а это кое о чем говорит.
Кузнечик с любопытством взглянул на него:
– Откуда ты знаешь, которого из них не было? Они же одинаковые.
– Они одинаковые – голоса разные, – объяснил Слепой. – Макс, наверное, струсил из-за своей ноги. Теперь их на одного человека меньше, разве этого мало?
Кузнечик вздохнул:
– Все равно их слишком много на нас двоих. Мы их никогда не одолеем.
Слепой пренебрежительно фыркнул:
– Никогда – это слишком долгое слово. Ты их любишь, такие дурацкие слова. Лучше думай о том, что мы сильнее. Просто их больше. Когда-нибудь мы вырастем, и они пожалеют, что нас доставали.
– Если мы доживем до этого времени, – мрачно добавил Кузнечик. – А если и дальше все будет, как сейчас, мы до него не доживем.
– Ты пессимист, – грустно сказал Слепой.
Они сидели спина к спине и молчали. Зажглась лампочка под потолком. Одна, потом вторая. Ухо Кузнечика горело.
– Потрогай, пожалуйста, мое ухо, – попросил он. – Оно жжется.
Слепой нащупал его плечи, шею и прижал ладонь к уху. Ладонь была холодная, уху стало приятно.
– Придумай что-нибудь, Слепой, – сказал Кузнечик. – Пока мы еще живы.
– Я постараюсь.
Слепой держал его ухо и думал. О своем обещании Лосю. «Обещай мне за ним присматривать».
Все лампочки, сколько их было, зажглись разом. Коридор осветился.
В спальне под руководством Спортсмена мальчишки устанавливали на приоткрытую дверь таз с водой.
– Свалится, – предупредил Пышка. – Вам же на головы и свалится. Или еще кто-нибудь зайдет до них. Так всегда бывает.
Пышка сидел на кровати и нянчил ушибленный в драке палец. Палец был зашиблен об кого-то из своих, поэтому настроение у Пышки было вдвойне плохим.
– Не свалится, – отвечал Спортсмен. – Все сделано на совесть.
Зануда соскочил со стула, опасливо покосившись на таз.
– Классная идея, люди! Они входят – Слепому – бамс! – по макушке! Пока он в отключке, мы мамину детку хвать – и в унитаз башкой! – Зануда захихикал.
Плакса, оторвавшись от чистки ножей, визгливо поддержал его с подоконника.
Они легли, каждый на свою кровать, и приготовились к долгому ожиданию. Таз угрожающе блестел синим боком, нависая над пустым пространством. Всем было весело.
Всем, кроме Горбача. Он был против таза, как до того был против дохлой крысы в постели новичка и собачьей какашки в ботинке Слепого. Горбач был гуманистом. Но его никто не слушал.
– Пойдем, – сказал Слепой, поднимаясь с пола. – А то заснешь прямо здесь. Я кое-что придумал, но не знаю, получится ли.
Кузнечик нехотя встал, прижимая плечом больное ухо. Придумки Слепого – он это точно знал – мало для кого годились.
– Если ты придумал, что-то вроде того, что мы сейчас пойдем и всех их измордуем, то я лучше здесь посплю.
Слепой не ответил. Он шел в сторону их спальни. Ворча и негодуя, Кузнечик поплелся за ним.
– Сигарету бы мне сейчас.
– Рано тебе еще курить, – не поворачивая головы, отозвался Слепой.
– А как долго колотят новичков? – Кузнечик догнал его и зашагал рядом. – Десять раз или сто? Месяц или два?
– Один или два раза.
Кузнечик споткнулся от возмущения.
– Один или два? Тогда почему меня достают уже целую вечность? Я что – особенный?
Слепой остановился:
– Конечно. Ты ведь не один. С тобой я, а это уже война. Мы против них, они против нас. Разве ты еще не понял?
– То есть если бы не было тебя…
– Ты бы давно стал для них своим.
Слепой не шутил, потому что он не шутил никогда. Кузнечик поискал на его лице следы улыбки, но Слепой был серьезен.
– Так это все из-за тебя? – упавшим голосом спросил Кузнечик.
– Ага. А ты еще не понял? – Слепой отвернулся и пошел дальше.
Кузнечик медленно брел за ним, чувствуя себя самым несчастным человеком в Доме. Виноват в этом был Лось. Добрейший и мудрейший Лось, который подарил ему друга и защитника, а заодно кучу врагов и нескончаемую войну. Никогда не стать ему своим среди младших, пока рядом Слепой, а Слепой всегда будет рядом, потому что так захотел Лось. И их всегда будут бить и ненавидеть. Хотелось плакать и ругаться, но он молчал, стараясь не отставать от Слепого. Потому что, если сказать, что виноват Лось, Слепой озвереет, и все станет еще хуже.
Слепой остановился перед дверью десятой спальни. Спальни старших. Дверь была выкрашена в черный, с белыми и красными надписями, с каплями краски и брызгами, сделанными специально для красоты.
Слепой стоял прислушиваясь. Кузнечик перечитывал надписи, которые и так знал наизусть:
«Каждый поет свою песню».
«Весна – страшное время перемен».
«Логово Сиреневого Крысуна».
«Будь осторожен. Я есмь Кусливая Собака».
«Не стучать. Не входить».
В Доме дверь в чужую спальню – не всегда дверь. Для некоторых это глухая стена. Эта дверь была стеной, поэтому, когда Слепой постучал в нее, Кузнечик испуганно ахнул.
– Ты что? Нам сюда нельзя!
Слепой, не дожидаясь приглашения, вошел.
Кузнечик сел перед закрытой дверью на корточки. Он догадывался, зачем Слепому понадобился Седой, и боялся об этом думать.
Через некоторое время дверь отворилась. Надписи уехали и появились опять. Кузнечик встал. Слепой прислонился к двери, таинственно улыбаясь. Под полуприрытыми веками влажно плавали невидящие зрачки.
– У тебя будет амулет, – сказал он. – Только надо немножко подождать.
Сердце Кузнечика подпрыгнуло и провалилось куда-то в глубину живота. Коленки задрожали.
– Спасибо, – прошептал он еле слышно. – Спасибо тебе.
В темной спальне горел ночник, повернутый колпачком к стене. Седой склонился над жестяной коробкой с откинутой крышкой. Талисманы от сглаза таращились на него стеклянными зрачками. Камешки с дырками, пуговицы с монограммами, потемневшие монеты и медали, собачьи и кошачьи клыки, иероглифы на крошечных, с ноготь, осколках, семена неведомых растений, нанизанные на нитки. Сокровища, при виде которых малолетний Пылесос потерял бы рассудок. Там было много всего, но Седой не мог выбрать. Он закрыл глаза и нащупал наугад.
Крошечный котенок из пористого камня. С человеческим лицом. Исцарапанный от долгого хранения в коробке, от частого соприкосновения с другими сокровищами. Седой повертел его в руках и, хитро улыбнувшись, положил на кусочек замши.
Добавил корешок, похожий на крысиный хвостик, и крошку бирюзы. Полюбовался своим произведением, сильно затянулся и аккуратно стряхнул в середину композиции пепел. Потом сложил замшу в маленький мешочек, стянул его края и зашил их нитками.
– Надеюсь, ты принесешь своему желторотому хозяину счастье, – с сомнением сказал он, взвесив на ладони новенький амулет, и, отложив его, занялся поисками шнурка.
Кузнечик застенчиво мялся в дверях, не решаясь войти. Старшеклассник сидел на полосатом матрасе, лежавшим на полу рядом с большим аквариумом, и курил. Его волосы были белыми, лицо почти не отличалось цветом от волос, а пальцы – от сигареты. Только губы и глаза на этом лице были живыми и имели цвет. Розово-винные глаза в белых ресницах.
– Так это ты хочешь получить амулет? – спросил Седой. – Подойди. Кузнечик подошел настороженный, одеревеневший от страха, хотя и знал, что Седой не вскочит и не набросится на него (даже если такая мысль придет ему в голову), потому что не может этого сделать.
Аквариум светился зеленым, в нем плавали только две рыбки, похожие на черные треугольники. На циновке перед матрасом стояли стаканы с липким осадком на донышках.
– Нагнись, – сказал Седой.
Кузнечик присел рядом, и Седой надел ему на шею амулет. Маленький мешочек из серой замши, расшитый белыми нитками.
– У тебя очень упрямый друг, – сказал Седой. – Упрямый и настырный. Оба эти качества похвальны, но действуют на нервы окружающим. Я не делаю амулеты для малолеток. Тебе повезло. Ты будешь исключением.
Скосив глаза, Кузнечик рассматривал амулет.
– А что здесь? – спросил он шепотом.
– Твоя сила.
Седой спрятал мешочек ему под майку.
– Так лучше, – объяснил он. – Не бросается в глаза. Это сила и удача, – повторил он. – Почти столько же, сколько я дал в свое время Черепу. Будь осторожен теперь. Постарайся, чтобы его никто не видел.
Кузнечик заморгал, оглушенный словами Седого.
– Ой! – опустив голову, он с благоговейным страхом посмотрел на то, что выглядело, как безобидный бугорок под майкой. – Это слишком много, – прошептал он.
Седой засмеялся.
– Много не бывает. И потом, она проявится не сразу. Не думай, пожалуйста, что выйдешь отсюда вторым Черепом. Всему свое время.
– Спасибо, – сказал Кузнечик.
Следовало сказать еще что-нибудь, но он не знал что. Он плохо разбирался в таких вещах. Губы сами растягивались в улыбку. Глупую и счастливую. Он смотрел в пол, улыбаясь от уха до уха, и тихо повторял:
– Спасибо, спасибо…
Мысленно, пальцами Слепого, он уже вспарывал амулет. Что там? Неужели еще один обезьяний черепок? Или что-то еще более удивительное?
Седой как будто прочел его мысли.
– Амулет нельзя открывать. Он потеряет всю свою силу. Не раньше чем через два года ты можешь это сделать. Но не раньше. Не говори потом, что я тебя не предупреждал.
Кузнечик перестал улыбаться:
– Я ни за что этого не сделаю.
– Тогда беги, – Седой бросил окурок в стакан с лимонадом и посмотрел на часы. – Я и так потратил на тебя уйму времени.
Кузнечик выбежал, с удовольствием продемонстрировав Седому свое умение открывать дверь ногой.
Слепой сидел у стены на корточках, но, как только он вышел, сразу встал.
– Ну?
– Он у меня, – шепотом доложил Кузнечик, выпятив грудь. – Можешь потрогать. Под майкой.
Пальцы Слепого нырнули под майку и нащупали мешочек. Кузнечик ежился от щекотки и хихикал.
– Стой смирно! – прикрикнул на него Слепой и продолжил изучение амулета.
– Там что-то твердое из камня, – сказал он, отпуская мешочек. – И еще что-то засохшее, вроде травы. Замша слишком плотная. Ничего не разберешь.
Кузнечик приплясывал на месте от нетерпения. Ему ужасно хотелось рассказать о том, что прячется у него под майкой, но он не решался. Не стоит хвастать такими непроверяемыми вещами. Но Великая Сила на шнурке не давала покоя. Надо было куда-то бежать и что-то делать, чтобы прогнать этот зуд в ногах, эту прыгучесть и желание взлететь.
– Давай поднимемся на дальний гараж? – предложил он. – На крышу, под луну, на то наше место! Ведь сегодня великая ночь! Сегодня нельзя спать!
Слепой пожал плечами. Ночь была самая обыкновенная, и ему больше хотелось спать, чем лезть на гараж, но он понимал, что Кузнечик слишком взбудоражен и сейчас ему не до сна. То, что сказал Седой, надо было переварить до встречи со стаей. Седой – молодец. Слепой от всего сердца восхитился, подслушивая их разговор под дверью. Никто из старших бы так не сумел.
– Хорошо, – сказал он. – Пошли на крышу.
Кузнечик свистнул и скачками понесся по коридору.
Великая Сила стучала под майкой, как второе сердце, подбрасывая его над землей. Паркет ловил его и отталкивал, как будто был сделан из резины. Кузнечик вопил и визжал от счастья, приплясывая на ходу. На всем протяжении его пути распахивались двери спален, и оттуда доносилось возмущенное шиканье.
Слепой догнал его уже в конце коридора, и они пошли рядом – двое очень разных мальчишек в рваных зеленых майках.
В шестой спальне их проклинали, зевали и боролись со сном.
– Не м-могу больше, – скулил Плакса, стягивая носки. – Уп-п-пущу т-такое зрелище!
Носок полетел через всю комнату и повис на настольной лампе.
– Сколько можно? Уже ночь!
– Терпи, – процедил Спортсмен со своей кровати. – Столько терпел, потерпи еще чуток.
Сиамец Рекс двумя пальцами придерживал веки в раскрытом виде. Его брат сладко спал, обняв подушку.
Спортсмен оглядел изнемогшую стаю:
– Слабаки, – прошептал он. – Какие же вы все слабаки…
Пышка зевнул, захлопнул тетрадь с наклейками спортивных автомобилей и спрятал ее под матрас.
– Вы как хотите, а я буду спать, – заявил он, отворачиваясь к стене. – Все равно эта штука на них свалится, даже если я этого не увижу.
– Предатель, – проворчал Сиамец Рекс.
– Сам, – ответил Пышка, не оборачиваясь.
Спортсмен вздохнул и пересчитал оставшихся на посту.
Четыре понурые фигуры в зеленых майках болтали ногами, каждая на своей кровати. Толстый Слон в углу сосал палец. Поймав на себе взгляд Спортсмена, он вытащил палец изо рта и застенчиво улыбнулся:
– Еще нельзя пойти сделать пи-пи? – спросил он.
– Черт бы вас всех подрал! – не выдержал Спортсмен. – Не можете и часу вытерпеть без туалета! Одному – писать, другому – ноги мыть, третьему – цветок поливать. Какая вы стая? Вы – сборище древних сонь! Вам бы только жрать, дрыхнуть и писать вовремя!
Слон налился красным, завздыхал и заплакал. Сиамец Макс тут же проснулся. Слон рыдал. Макс посмотрел на брата. Рекс соскочил с кровати, прохромал к Слону и обнял его пухлые плечи:
– Ну-ну, малыш… не реви. Все будет хорошо.
– Я хочу пи-пи, – прорыдал Слон. – А он не пускает.
– Сейчас пустит, – пообещал Сиамец, грозно кося на Спортсмена желтым глазом, – сейчас он так пустит, как ему и не снилось!
Горбач, тихо лежавший на верхней полке, вдруг вскочил.
– Надоело! – закричал он, запуская в стоявший на двери таз ботинком.
С потоками воды и жестяным грохотом таз обрушился на пол. От испуга Слон замолчал. Плакса истерично хихикнул и поджал босые ноги. По паркету растекалось озеро.