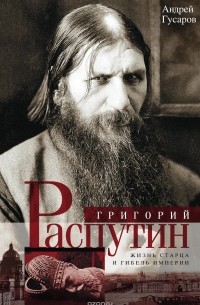Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Часть II. В поисках Бога. Время странствий
Глава 4. Опытный странник
Всё хорошо в семье Григория Ефимовича Распутина – новый дом, хозяйство, планы на будущее, а неспокойно на душе главы семейства, сны снятся странные, кто-то зовёт куда-то. Часто во время сна является Казанская икона Божией Матери, и вроде бы неспроста, да растолковать значение этого не может Григорий, а подсказать пока некому.
Однажды, а дело было в 1892 году, Григорий вызвался отвезти в Тюмень на телеге студента духовной академии Малотия Заборовского, будущего ректора Томской духовной академии. Дорога в 80 верст занимала немало времени, так что монологи студента-монаха, очевидно, сильно подействовали на Григория, который спустя некоторое время отправился паломником в Верхотурье, в тамошний Николаевский монастырь, где пробыл три месяца. С этого началась история знаменитых распутинских религиозных путешествий.
Помимо этого, на Григория, как считала его дочь Матрёна Распутина, оказал влияние Дмитрий Иванович Печёркин – крестьянин той же губернии, потерявший жену и троих детей. В декабре 1919 года дочь Г.Е. Распутина давала показания следователю по особо важным делам при Омском окружном суде Н.А. Соколову, известному по расследованию убийства семьи Николая II. Матрёна тогда сообщила: «Раньше отец жил, как все крестьяне, занимаясь хозяйством. Вдруг он оставил семью и ушёл странствовать. Должно быть, что-то произошло у него в душе: он перестал пить, курить, есть мясо и ушёл из дома. Я думаю, что на него так подействовал известный в наших местах странник Дмитрий Иванович Печёркин, родом из деревни Кулиги (вёрст 300 от Тобольска). По крайней мере, перед уходом отца Печёркин у нас был, и они ушли тогда вместе с отцом. Приблизительно это было в 1905 году».
Где и когда познакомился Распутин с Печёркиным – нам неизвестно, но то, что оба паломника сблизились на духовной почве – это факт. В семье Григория Ефимовича в Покровском долгое время работала прислугой племянница Печёркина – Екатерина Ивановна; у Распутиных служила и его сестра – Авдотья Ивановна Печёркина. Екатерина, кстати, успела пожить и в столице, в квартире на Гороховой, 64, тоже в качестве прислуги. О своей работе Екатерина Ивановна сообщала при расспросах в Тобольской духовной консистории: «Живём, управляем хозяйством из-за содержания, когда нуждаемся в одежде, деньгах, Гр. Еф. не отказывает нам. Обращаются с нами хозяева и гости всегда хорошо и ласково, держат нас не внизу, а больше вместе с собою. С ними мы беседуем, поём церковное и слушаем чтение Евангелия. <…> Учит нас Гр. Еф. иметь чистую совесть и любить друг друга, заставляет ходить в церковь, исповедоваться чаще и причащаться».
Кроме этого, как я уже писал, сын Распутина Дмитрий женился на Фёкле (Феше) Печёркиной – родственнице Дмитрия Ивановича.
Так, по стечению обстоятельств и под влиянием новых знакомых, Григорий Ефимович встал на путь странничества и прославления православной веры.
Решение покинуть семью далось Григорию непросто. Всю ночь простоял он перед иконой, молясь и ища поддержки у Бога. Утром собрался и ушёл. Что он сказал своей жене, как объяснил своё решение, но только она подумала, что разлюбил Григорий её. «Поторопись», – только и смогла сказать ему на прощание Прасковья Фёдоровна. По свидетельству многих очевидцев, она не сразу признала новый стиль жизни своего супруга. По крайней мере, день, когда муж ушёл первый раз, стал для неё трагическим.
Иную интерпретацию истории первого ухода Распутина сообщает иерей Илиодор (С. Труфанов): «…Во время молотьбы, когда над его святостью смеялись домашние, он воткнул лопату в ворох зерна и, как был, пошёл по святым местам. Ходил целый год. Много видел, много слышал». Так Илиодору рассказывал сам Распутин, но, учитывая скандальную известность Труфанова, полностью доверять его словам довольно сложно.
Странствия Григория Ефимовича по России, на Святую землю и по святым местам Греции, Турции и других стран занимают в биографии старца важное и, конечно, почётное место. Эти путешествия Распутина в определённой степени сформировали его будущее петербургское «старчество». Не только бесценный духовный опыт обогатил сибирского крестьянина в долгих походах и поездках, но и уникальная возможность познакомиться с массой людей, увидеть свет, вырваться, в том числе и психологически, из замкнутого мира крестьянской общины. Жизнь в деревне назвать комфортной для Григория сложно, прежде всего в духовном смысле.
Многие участники событий подтверждали, что христианство определённым образом трансформировалось в сознании Распутина (под влиянием не только впечатлений от паломничества, но и знакомства с хлыстами) в разновидность «народного христианства», лишённого привычных атрибутов церкви, но воплощённого в самом Распутине – центре этого верования. Так, сам собой, возник и образ «старца», который Григорий Ефимович всячески пестовал, но который был бы невозможен без кружка почитателей, видевшего в Распутине провидца и утешителя. Было ли это просто игрой со стороны Григория Ефимовича? Вопрос сложный. Скорее всего, довольно быстро «старец» уверовал в свою избранность и в свои силы. Та же трансформация произошла и с его христианской верой.
Наиболее точно это передал секретарь «старца» Арон Симонович Симанович: «Распутин был верующим, но не притворялся, молился мало и неохотно, любил, однако, говорить о Боге, вести длинные беседы на религиозные темы и, несмотря на свою необразованность, любил философствовать. Его сильно интересовала духовная жизнь человека. Он был знаток человеческой психики, что оказывало ему большую помощь».
Впрочем, любовь к беседам и философствованию – это от поездок, от путешествий. В дороге, с незнакомцами, русский человек любит пофилософствовать, поговорить «по душам».
Сам Григорий Ефимович в «Житии» это подтверждает: «Я нашёл много людей, сомневающихся в себе с 16 лет и до 33, и мне пришлось беседовать по поводу сомнения. И так это сомнение доходит до такой глубины в забытье, что представляется в конце концов, что даже не достоин в храм ходить, Святыя Тайны принимать и на иконы, то есть на лик Божий взирать».
А.С. Симанович
В другом месте «старец» рассуждает так: «Придётся если на мягком спать, то и хорошо в интеллигентном обществе, а в поле на кочке и слаще, и берёзонька под боком и зорьку не проспишь, и на всё это опыт. Ещё в петровские ночи я пахал, оводов тоже убирал с себя – пускай покушают тело и попьют дурную кровь. Я размышлял: и они Божие создание, так и я сотворен Богом. Кабы Бог не дал лета, не было бы и комаров. Ах, какой у мужика труд золотой, и он делает всё с рассуждением. Вот и комаров-то покормит и то во Славу Божию. Мужичок мудреный и опытный».
Указанные образцы незатейливой крестьянской философии Распутина, наивной, а местами примитивной, приводили в восторг «образованную» петербургскую публику.
Возникает ещё один важный вопрос. Не в многочисленных ли паломничествах появился у Григория Ефимовича определённый интерес к духовной жизни других людей, не там ли познал он многие стороны человеческой души? Ответить на это можно утвердительно. И о чём также можно говорить с уверенностью, так это о том, что все свои знания о Библии и вере вообще Распутин получил в поездках.
Писатель и проницательный человек Василий Васильевич Розанов писал о Распутине: «Мужичишко, серее которого я не встречал». Мы не раз ещё столкнёмся с подобными суждениями о Григории Ефимовиче, которого в беседе на духовные темы спасала лишь хорошая память и жизненный опыт.
Многие отмечали ум Распутина. Но мы должны понимать, что речь шла не об интеллектуальных способностях «старца», а о том, что мы называем «народной мудростью»: особенное житейское понимание действительности, основанное на личном опыте. У каждого из нас за плечами тот или иной багаж знаний о жизни, собрание наших личных представлений и предпочтений. Называть это умом, конечно, можно, но, согласитесь, это всё относится лишь к человеческому опыту, а не к интеллекту того или иного индивидуума. Так что не умом брал высший свет Григорий Ефимович, а хитростью и чутьём, в отношении человеческой, а точнее женской, психологии.
Психиатр профессор В.П. Рожнов точно подметил: «…Распутин был в какой-то степени личностью незаурядной. В ту мрачную эпоху не было у него ни знатного происхождения, ни богатства, ни образования. Однако, когда жизненная борьба столкнула его, малограмотного мужика, с представителями аристократической знати, он проявил великолепное понимание их человеческой натуры».
Окружающим последователям и особенно впечатлительным дамам казалось, что перед ними знаток Библии, да ещё и её толкователь, что, конечно, абсурдно. Нетрудно представить, что общение с духовными лицами и другими паломниками во время путешествий к святым местам позволили запомнить и толкование святых текстов. К тому же Распутин был неграмотным, и почерпнуть необходимые знания в части толкования библейских текстов из книг он никак не мог. Хотя в своем «Житие…» Распутин пишет, что черпал знания, читая Евангелие. Нужно понимать, что это выдумка – часть «старческой» легенды Распутина, а библейские знания Григория Ефимовича, скорее всего, состояли их толкований Библии всех тех, с кем он познакомился во время странствий, и того, что проницательный крестьянский ум выделил и запомнил.
Распутин открыто признавался в своей неграмотности во время встречи с Тобольским епископом Антонием, говорил, что читает по-русски плохо, а писать не может совсем, но любит слушать чтение Евангелий и книг на богословские темы. Подтверждал Распутин при этой встрече и то, что книг по богословию он не читал, как и саму Библию.
Писать невообразимыми каракулями и читать старец научился лишь в Петербурге, в 1910-х годах. Это и стало вершиной образования нашего героя.
Историк М.Н. Покровский отмечал: «Не может быть, чтобы „божий человек“ не умел говорить понятно, по-своему, по-крестьянски, но и ему, и его поклонникам обыкновенная человеческая речь показалась бы отступлением от ритуала».
А потому и вёл себя Распутин, как оракул, провозглашая общеизвестные истины и христианские сюжеты в форме народной, речевой, необычной для городских обывателей. Делал это осознано, специально говорил витиеватым языком. «Человеку, чем непонятней, тем дороже», – признавал в интимных беседах сам «старец».
Конечно, в определённый момент игра в старчество, которую начал «мужичишко» Распутин в Петербурге, а может быть, ещё и в Покровском, со временем переросла в нечто большее. И поверил он в свою великую миссию, решив, что он – мессия.
«Некоторые из его изречений меня удивили оригинальностью, – писал в 1912 г. в „Новом Времени“ о встречах с Распутиным М.О. Меньшиков, – и даже глубиной. Так говорили древние оракулы или пифии в мистическом бреду: что-то вещее развёртывалось из загадочных слов, что-то тёмно-мудрое».
С какой же убедительностью и силой малограмотный крестьянин изрекал свои истины, что удивил даже образованного публициста и идеолога русского национального движения Михаила Осиповича Меньшикова, которого никак нельзя причислить к последователям старца.
Нехитрый информационный «багаж» хорошо поможет старцу в Петербурге, где «духовная учёность» Григория Ефимовича станет предметом слепого поклонения группы экзальтированных особ женского пола, в числе которых окажется и императрица Александра Фёдоровна. Но у этой «учёности» старца была и оборотная сторона – отношение к ней Синода и его известных представителей.
Распутин намеренно противопоставлял себя официальной церкви, и это, в частности, выражалось в его особых интимных отношениях с женщинами, его взглядах на проблему взаимоотношения полов и греховности. К этой темой мы ещё вернёмся не раз.
Замечу лишь, что распутинское христианство в своей основе ближе к мироощущению библейских пророков-многожёнцев или того же весёлого царя Давида, чем к строгим положениям апостольской церкви. Давид, как известно, любил пиры и пляски, а пророки имели гаремы и бесчисленное потомство, что официальной церковью считается грехом. Впрочем, если Григорий Ефимович позиционировал себя в качестве пророка, то стиль его жизни был вполне органичен и находился в рамках библейских мифов.
Как и древние пророки, Григорий Ефимович превратил грех в фарс, а веру – в игру, назвав свои похождения добродетельными. И удивительно здесь то, что во всём этом была своя крестьянская правда: та незатейливая действительность, на словах отвергаемая лицемерным столичным обществом, властью и православной церковью.
По прошествии ста лет нам сложно представить картину жизни Григория Ефимовича во всей полноте, но определённое понимание его внутреннего мироустройства даёт книга «Житие опытного странника», вышедшая в 1907 году. Старец надиктовал её, вспоминая свои походы по России и в Палестину.
Основной идеей, пропагандируемой Григорием Ефимовичем, остаётся всё тот же славянофильский крестьянский монархизм, где народ, царь и христианство сливаются в соборной гармонии. Мудрый царь-батюшка правит, плохие чиновники мешают жить, пахарь пашет, воин воюет и так далее. Идиллия русского мира.
Довольно стройный отредактированный текст «Жития» рассказывает о походах «старца» достаточно подробно, в основном без точного указания мест. Рассказы о странствиях перемешиваются с историями об ощущениях Григория Ефимовича и рассуждениями о Боге и вере.
«Я шёл по 40–50 верст в день, – пишет Распутин, – и не спрашивал ни бури, ни ветра, ни дождя. Мне редко
приходилось кушать, по Тамбовской губернии на одних картошках, не имел с собой капитала и не собирал во век: придётся Бог пошлёт, с ночлегом пустят – тут и покушаю. Так не один раз приходил в Киев из Тобольска, не переменял белья по полугоду и не налагал руки до тела – это вериги тайные, то есть это делал для опыта и испытания. Нередко шёл по три дня, вкушал только самую малость. В жаркие дни налагал на себя пост: не пил квасу, а работал с подёнщиками, как и они; работал и убегал на отдохновение на молитву. <…> Природа научила меня любить Бога и беседовать с Ним. Я воображал в очах своих картину самого Спасителя, ходившего с учениками своими. Приходилось нередко думать о Царице Небесной, как Она приходила на высокие места и просила Бога – „Скоро ли я буду готова к Тебе“».
И далее в том же духе.
Странствия Григория Ефимовича начались примерно в 1892 году, а первые остановки ищущего Бога паломника из Покровского произошли в двух монастырях: Абалакском и Верхотуринском.