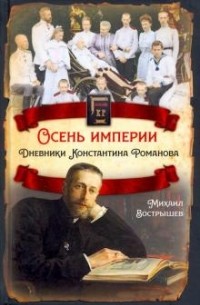Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Старший брат
Слово «душевнобольной» имеет в русском языке единственное значение: человек, страдающий психическом заболеванием, сумасшедший.
Болеть душой может и жестокий преступник, и талантливый художник, и банковский клерк. В XIX веке в среде интеллигенции считалось даже достоинством быть психически нестойким. Ощущал в себе зачатки душевной болезни и Константин Константинович – легко возбудимый, моментально впадавший в грусть, патетику, слезы, радостную истерию. На ум приходило, что во всем виновата дурная наследственность.
«Мне вспомнились Петр III, Павел I, Александр I и Константин Павлович, о которых думают, что они много страдали сумасшествием. Потом Никола» (26 декабря 1876 г.).
Через полтора года после свадьбы Константина Николаевича с Александрой Иосифовной, 2 февраля 1850 года, у молодоженов родился первенец, получивший при крещении имя божьего угодника и чудотворца святителя Николая чудотворца. В августейшем семействе было принято называть друг друга уменьшительными именами на иностранный манер (Николай Николаевич Старший – Низи, Николай Михайлович – Бимбо, Николай II – Ники). И лишь сына либерала-западника Константина Николаевича родители называли ласковым русским именем – Никола.
Детство его проходило под присмотром многочисленной челяди. Чтобы развеять скуку дворцовых покоев, Никола придумывал собственные развлечения. Так, он собрал в Павловске гимназистов и, сформировав из них несколько рот, устроил маневры. Задачей молодых скаутов был захват небольшой крепости в Павловском парке, где жили на покое солдаты-инвалиды. Мальчики вооружились игрушечными ружьями, барабанами, сигнальными рожками и ротными флажками. Команды отдавались согласно воинскому уставу. В результате крепость с криками «ура!» взяли штурмом, а призреваемые инвалиды сдались в плен. Кое-кому из придворных детская забава показалась похожей на штурм Бастилии, что, как известно, является символом крушения монархии. Николу отругали и впредь запретили подобные развлечения.
Писатель Д. В. Григорович, четырнадцать месяцев состоявший воспитателем при Николе, рассказывал, что мальчика очень ожесточил приставленный к нему немец, любивший методично бить ученика по щекам верхней частью ладони.
Характер юного великого князя с годами становился все более неуравновешенным, упрямым, взбалмошным. Лейб-медик И. С. Гауровиц отмечал, что быстрая возбудимость и необузданная чувствительность (на женский пол Никола стал заглядываться с двенадцати-тринадцати лет) достались ему от матери, у которой нервные расстройства доходили до галлюцинаций и ясновидения. По утверждению опять же Д. В. Григоровича, «когда он был юношей и жил в Мраморном дворце, к нему водили девок по целым десяткам».
Распутство великие князья, люди в своем большинстве глубоко религиозные, по странному стечению обстоятельств не считали грехом и даже на старости лет при живых женах заводили себе молодых любовниц, скармливая им значительные капиталы.
Никола, считавшийся самым красивым из великих князей, сдал экзамены за курс Академии Генерального штаба и поступил на службу в лейб-гвардии Конный полк. Константин Константинович отмечает в своем дневнике за 1871 год, что вся семья любуется Николой, гордится, что он – командир эскадрона.
Блистательный офицер царской крови много путешествует по Европе, скупает картины и редкие музейные вещицы, любуется старинными городами. В 1873 году, уже в чине полковника, он принял участие в Хивинском походе, победоносно закончившимся подчинением Хивинского царства русскому царю.
Живя уже отдельно от родителей в собственном дворце и получая ежегодно дохода от августейших уделов, то есть земель, принадлежащих Дому Романовых и сдаваемых в аренду, более двухсот тысяч рублей (пуд ржаной муки в самые голодные годы стоил не более рубля), Никола и в Петербурге, и в Европе показал удаль русского барина. Он не стеснял себя ни в денежных тратах, ни в выборе любовниц, ни в товарищеских офицерских попойках. Ему прочили удачную карьеру, блестящее будущее. И вдруг…
В начале 1874 года в царском Зимнем и великокняжеском Мраморном дворцах были замечены странные происшествия. Сначала у императрицы Марии Александровны после фамильного обеда со стола пропали какие-то драгоценные вещи. Александр II сообщил об этом брату Константину Николаевичу, а тот между прочим заговорил о происшествии с женой. «Ах, это Никола!» – в ужасе воскликнула Александра Иосифовна. Муж рассердился, что у нее подобные мысли о собственном сыне, и оборвал разговор.
В марте Александра Иосифовна заметила пропажу изумрудных серег. Несколькими днями позже во время ее причащения с Николой из домовой церкви исчезли старинные кресты. Мать уверилась, что виною всему старший сын, в последние годы все более отделявшийся от семьи и Бога. А тут еще официант Таубс, желая подольститься к подозрительной великой княгине, не скрывавшей своих прозрений от челяди, доложил, что из Турецкой комнаты исчезла китайская чашка, которую он недавно видел в руках Николы. Другой лакей сообщил, что Никола взял с отцовского стола карандаш и сунул себе в карман. Наконец, обнаружили и крупную кощунственную кражу: 9 апреля из иконы, которой благословляли Александру Иосифовну в день свадьбы, вор вынул и унес бриллиантовый камень.
Всю полицию Петербурга поставили на ноги. Пропажу обнаружили в тот же день в ломбарде, куда бриллиант отнес, по сохранившейся записи, адъютант Николая Константиновича, капитан Варпаховский.
Отец отправился к сыну домой и, не застав его, приказал тотчас разыскать подозреваемого и доставить в Мраморный дворец. Спустя несколько часов Никола предстал перед очами отца и начальника Третьего отделения графа П. А. Шувалова. Поначалу он от краж открещивался, придумал детское объяснение, что купил бриллиант у незнакомой старухи на улице, но в конце концов пришлось сознаться. Гром грянул…
Родители посчитали, что на кражу сына подбила американская куртизанка Фанни Лир, с которой, не забывая других женщин, сын поддерживал любовную связь с 1871 года. Она и раньше кружила головы высокопоставленным особам в Европе, но русский великий князь оказался самым лакомым кусочком ее сладкого пирога. Уже вырвавшись из России, Фанни Лир вспоминала о первой встрече с ним: «Передо мной был молодой человек ростом немного более шести футов, прекрасно сложенный, широкоплечий, с гибким и тонким станом. У него была небольшая, красивой формы голова, овальное лицо и мягкие шелковистые волосы, остриженные под гребенку; ослепительной белизны широкий и открытый лоб, светившийся умом и проницательностью; густые черные брови и небольшие, углубленные в орбитах зеленоватые глаза, которые смотрели насмешливо и, как я узнала потом, во время гнева сверкавшие как угли. Они становились лучезарными в момент радости». Летом 1872 года Николай Константинович снял для Фанни Лир загородную дачу невдалеке от Павловского дворца и почти ежедневно посещал возлюбленную. Осенью, распрощавшись с дачной жизнью, они укатили за границу. Все было бы ничего, многие великие и невеликие князья развлекались подобных образом, но он поспел привезти с собой любовницу в Грецию, к родной сестре – королеве эллинов Ольге Константиновне, что стало причиной скандала и гнева русского императора.
Не позаботившегося о внешней благопристойности великого князя отправили на полгода завоевывать Хиву, но по возвращении из похода, в июле 1873 года, старая любовная страсть разгорелась с новой силой. Николай Константинович поселился вместе с любовницей в новом дворце, купленном ему отцом.
«По широкой лестнице розового мрамора с великолепными вазами и бронзовыми фигурами, – описывает великокняжеские покои Фанни Лир, – мы поднялись во внутренние апартаменты, состоявшие из ряда комнат одна лучше другой. Тут я увидела огромную бальную залу, белую с позолотой, в стиле эпохи Возрождения; великолепный салон во вкусе Людовика XIV и другую гостиную, увешанную выцветшими гобеленами Людовика XV; курительную комнату мавританского стиля; будуар, обтянутый розовым шелком с кружевами; туалетный кабинет с превосходной мраморной ванной; большую столовую, обтянутую кордовской кожей; залу елизаветинского стиля; его кабинет; полузаброшенную домашнюю церковь и запущенный сад. Всюду драгоценные вещи, фарфор, картины, ковры. Я онемела от изумления при виде этого великолепия. Ни один дворец, кроме Мирамары, не мог бы поспорить в красоте с этим».
Молодую американскую куртизанку, по наущению Александры Иосифовны, решили обвинить во всех грехах Николы. Но он успел ее предупредить, чтобы побереглась русских жандармов, да и сама она умела постоять за себя.
Когда через несколько дней после признания в краже великий князь был арестован, в комнаты его любовницы, примыкавшие ко дворцу и имевшие отдельный выход, нагрянули с обыском. Все перевернув вверх дном, ничего не нашли, ибо смекалистая Фанни Лир успела переправить подаренные драгоценности вместе с обязательством великого князя на сто тысяч рублей и его завещанием, в котором она была упомянута, в американское посольство. Лишь спустя несколько месяцев, узнав, что Николай Константинович признан сумасшедшим и его имущество перешло под опеку отца, Фанни Лир согласилась продать бумаги высокородного любовника царскому правительству. Получив приличную сумму и пообещав не компрометировать Дом Романовых за границей, она подобру-поздорову убралась из России.
По другой версии кража произошла не по наущению женщины, а из-за крупных долгов. Но эти обывательские слухи легко опровергались, ибо сумма похищенного не превышала четырех тысяч рублей, а у Николая Константиновича в письменном столе при обыске обнаружили двенадцать тысяч, да и занять он мог в любое время больше, чем выкрал.
Более подходила третья версия, что великий князь страдал клептоманией – болезненным непреодолимым стремлением к воровству. Достаточно было взглянуть на предметы, найденные в его комнатах: склянки для духов, веера, табакерки, дешевые статуэтки, чтобы поверить в это. Удивляло только, что ничего подобного за ним раньше не замечалось (как, впрочем, и в последующие годы).
Доктор Морев, домашний врач великого князя, утверждал, что из-за постоянных семейных раздоров между родителями Николай Константинович в последнее время нехорошо себя чувствовал, и теперь произошел нервный срыв, разум помутился, и августейшего злоумышленника надо не карать, а лечить.
Существует и самая правдоподобная версия, озвученная в воспоминаниях одного современника, хранящихся в Российском государственном архиве литературы и искусства: кражи совершала великая княгиня Александра Иосифовна, чтобы в подходящий момент подбросить якобы украденное Фанни Лир и засадить ее в тюрьму. Но сын вовремя заметил проделки матери, спас любовницу, а всю вину взял на себя.
Какая бы версия ни была истинной, в обычной семье постарались бы скрыть от посторонних сам факт домашнего воровства и уж наверняка не докладывали бы о происшествии шефу жандармов. Иное, когда в тебе течет царская кровь. Александр II и его ближайшие родственники были до того щепетильными в вопросах престижа самодержавной власти, что не могли и помыслить, что кто-то из их семейства способен нарушить заповедь «не укради». Мало обращали внимания на другие пороки, указанные в Законе Божием: любостяжание (стремление к приобретению богатства), чревоугодие (объедание и пьянство), тщеславие и блуд, потому что сами грешили ими. Но опуститься до кражи, то есть проступка, свойственного лишь простолюдинам, – этого не могли ни понять, ни простить.
Вредил себе и Никола. Нет, чтобы покаяться, умолять о пощаде, он же в тюремном застенке впадал то в уныние, то в ярость. Так продолжалось несколько месяцев. В конце концов, по уверению современников, он написал императору письмо: «Безумен я или я преступник? Если я преступник, судите меня. Если я безумен, лечите меня. Но только дайте мне луч надежды на то, что я снова когда-нибудь увижу жизнь и свободу. То, что вы делаете, жестоко и бесчеловечно».
Подобный ропот нераскаявшегося арестанта до глубины души возмутил августейшее семейство и, если бы не страх перед мнением света, его сгноили бы в тюрьме. Но кто-то, наверное, вспомнил, что в древности в некоторых государствах существовало еще более изощренное наказание – вечное изгнание. Дабы арестант вкусил его плоды, врачи определили у него «дегенеративную форму помешательства, которая выражается больше в действиях, чем в словах» и 11 декабря 1874 года признали его душевнобольным, определив местом постоянного жительства и лечения отцовскую крымскую усадьбу Ореанду. Возле великого князя с этих пор и до февральской революции 1917 года постоянно находились явные и тайные надзиратели. Особо рьяно они пресекали (не по своему, конечно, почину, а по царскому) общение высокого больного с неблагонадежными интеллигентами и его продолжительную привязанность к женщинам.
В Крыму Николай Константинович влюбился в Александру Александровну Демидову, урожденную Абаза. Все шло поначалу хорошо: он встречался с ней, перестал заглядываться на других женщин, успокоился и серьезно занялся научной работой по изучению торговых путей Средней Азии. Даже перестал жаловаться, что ему запрещена переписка с кем-либо, кроме родителей. Но приехавшие вдруг из Петербурга врачи Здекадер и Балинский, исполняя, по всей видимости, волю российского престола, «положительным образом выразились против мысли об установлении постоянных сношений больного Великого Князя с одной женщиной, признавая неудобство и опасение за последствия могущей произойти привязанности к такой женщине». Они цинично предложили организовать что-то вроде постоянно обновляемого гарема при великом князе, ибо «сношение с женщиной признано нужным для Его Высочества собственно в физическом отношении».
Демидову для реализации столь прогрессивного метода лечения из Крыма удалили. Великий князь впал в неистовство, угрожал расправой своему главному надсмотрщику – капитану первого ранга Ухтомскому, обещал убежать за границу, требовал встреч с возлюбленной. Врач Чехов, постоянно находившийся при нем, писал по начальству, что необходимо смягчить надсмотр за Николаем Константиновичем, разрешить ему общаться с теми, кого он выбирает сам. Но нервное возбуждение высокого больного лишь уверило петербургские власти в правильности поставленного диагноза. Александр II самодержавно предписал прекратить любые контакты своего племянника и Демидовой и повелел не допускать его ни в какие публичные собрания, ограничив общение узким домашним кругом. Оправдывал свою строгость государь тем, что «в обществе неизбежно возбуждаются превратные толки о здоровье Его Высочества и подозрения об искусственности мер по настоящему делу». Говоря по-русски, в Петербурге боялись, что люди увидят в великом князе нормального человека, а не идиота.
Николая Константиновича в течение 1875–1877 годов перевозят с места на место (село Смоленское Владимирской губернии, город Усмань Киевской губернии, имение Тавров Подольской губернии), надеясь окончательно избавиться от Демидовой. Но возлюбленные каждый раз вновь находят друг друга, и тайные встречи не прекращаются. Наконец Демидовой то ли дали хорошего отступного, то ли припугнули, а вернее, и то и другое вместе, и она, уж родившая двух детей от великого князя вдобавок к пяти от бывшего мужа, оборвала любовную связь и спустя два года вышла замуж за графа П. Ф. Сумарокова-Эльстена.
Удрученного Николая Константиновича 26 мая 1877 года переправили в очередную ссылку – в Оренбург, объяснив ее необходимостью лечения кумысом. Поначалу жизнь на новом месте складывалась спокойно. Великого князя поместили в лучших комнатах городской гостиницы, и он опять увлекся научными изысканиями, остыв, кажется, от пылкой любви. В его характере и раньше замечалось подобное: неистовство, упрямство, граничащее с безумием, стремление преодолеть любые преграды ради поставленной цели – и вдруг полная апатия, полунасмешливое воспоминание о своем чувствительном прошлом. Любовь вспыхивала ярким пламенем, но и сгорала дотла.
Вскоре Николай Константинович переселился за шесть верст от города, где новый главный надсмотрщик граф Ростовцев нашел подходящее для изоляции от оренбургского общества место – дачу Матвеева на берегу реки Сакмары. Общаться здесь было не с кем, и великий князь волей-неволей погрузился в ученые занятия по улучшению степного коневодства и приисканию лучшего пути для прокладки железной дороги в Ташкент. Дважды в течение 1877 года он побывал в экспедициях в песках Каракумов (с 19 июня по 29 июля и с 14 сентября по 11 октября). Итогом его исследований стали книги «О выборе кратчайшего направления среднеазиатской железной дороги» и «Пески Кара-Кум по отношению к среднеазиатской железной дороге». Обе получили одобрение императорского Русского географического общества за полную картину топографии и флоры местности, о которой до сих пор существовали смутные и не совсем верные представления.
Академик Г. П. Гальперин писал великому князю: «Пески Кара-Кум, считавшиеся непроходимыми для слезных дорог, благодаря полезному труду Вашего Императорского Высочества, оказываются проходимыми и безопасными».
Николай Константинович, в отличие от предшественников, доказывал возможность провести железную дорогу по прямой от Оренбурга до Ташкента, не огибая пески. В защиту своего проекта он привел множество доводов, основанных как на изучении старинных караванных путей, так и на наблюдениях за жизнью пустыни.
Лишь отец обрадовался увлечению старшего сына наукой и инженерным искусством. Остальные родственники остались равнодушны к столь плебейскому занятию высокородной особы. В Петербурге полагали, что оскорбительно тому, в ком течет августейшая романовская кровь, уподобляться простому инженеру-путейцу, зарабатывающего трудом кусок хлеба.
Равнодушие и снисходительность к Николаю Константиновичу быстро сменились гневом, когда 16 мая 1878 года Министерство двора и уделов получило шифрованную телеграмму, что высокий больной тайно женился на дочери провинциального казачьего офицера. Александр II, несмотря на то что его собственная любовная связь с женщиной низкого происхождения была у всех на глазах, был искренне возмущен безобразным поступком, то бишь неравным браком племянника, и приказал немедленно лишить его всех чинов и звания флигель-адъютанта. Щепетильного государя уговорили повременить – надо прояснить суть дела.
Дача оренбургского полицмейстера Драйера находилась по соседству с великокняжеской, и неудивительно, что Николай Константинович, лишенный человеческого общения, вскоре сошелся с хорошенькой полицмейстерской дочкой Надеждой Александровной. Когда стало ясно, что обоюдное увлечение не ограничилось несколькими встречами, семью Драйер отправили в Самару. Но дочь не последовала за родителями, оставшись рядом с великим князем. Любовная связь стала явной для провинциальной оренбургской публики и, чтобы не оскорблять патриархальных родительских чувств отца возлюбленной, великий князь 15 февраля 1878 года вступил в тайный брак с Надеждой Александровной. Венчавшему их сельскому священнику он назвался отставным полковником Николаем Константиновичем Волынским, ибо назовись он Романовым, батюшка побоялся бы совершить обряд бракосочетания. Но все тайное со временем становится явным, особенно если это касается августейшего семейства. Поэтому Петербург спустя три месяца узнал об ужасном поступке высокого больного. Его надзиратель граф Ростовцев – недаром же баловался либерализмом в молодости, переписываясь с А. И. Герценом, – посмел обратиться к Александру II с искренними словами о своем подопечном. «Его высокое положение, – писал граф, – и личные качества привлекают к Нему женщин неотразимо. В Нем же господствует потребность к сношениям с женщиной не только как предметом обладания, но и как средством удовлетворения других сторон жизни… Сношение Великого Князя с женщиной по Его выбору для Него необходимо как средство, сохраняющее в равновесии Его физическую и психическую природу». Далее граф сообщал, что весь Оренбург был возмущен переводом в другой город с понижением в должности полковника Драйера, известного здесь многолетней полезной деятельностью, а Николай Константинович, считавший себя причиной этой несправедливости, серьезно заболел из-за переживаний за тестя. Граф умолял императора не лишать свободы повенчанной Надежды Александровны и отменить незаслуженную немилость к ее отцу.
Суть дела была ясна, и 6 июня 1878 года государь собрал министров для решения единственного вопроса: смотреть на своего племянника, обвенчавшегося обманным образом (то есть под фамилией Волынского) на основании прежнего акта, которым он признан помешанным, или поступить с ним по всей строгости законов? Выслушав эксперта-юриста князя С. Н. Урусова, государственные мужи, желая показать друг другу превосходство своего ума, поспорили, после чего мирно разошлись, так и не придя к какому-либо решению.
Спустя две недели настойчивый государь вновь собрал свою чиновничью гвардию и задал тот же вопрос. Деваться было некуда, и единогласно постановили расторгнуть брак великого князя с девицей Драйер. Так как подобное решение являлось прерогативой Святейшего Синода, то немедленно отослали архиереям свое волеизлияние. О мере же наказания Николая Константиновича немного посудачили. Государь настаивал, что надо лишить его звания флигель-адъютанта. Хладнокровный военный министр граф Д. А. Милютин возразил, что подобное оскорбительное наказание вызовет пересуды в придворных кругах и бросит тень на всю августейшую фамилию. В конце концов постановили продолжать считать Николая Константиновича психически больным и уволить его со всех постов, которые за ним еще числятся, усилить лечение и надзор, особое внимание обратив на то, «чтобы Великий Князь избегал постоянной связи с одной и той же женщиной, последствием чего могут быть только непозволительные обещания и обманутые надежды».
Несмотря на новые строгости, Николай Константинович готовился к очередному путешествию в пустыню. «Состояние духа Его Высочества угнетенное, девица Драйер уезжает к своим родным. Великий Князь с нею виделся, но не нарушал приличия общественного», – сообщает граф Ростовцев 1 сентября 1873 года в Петербург. На следующий день экспедиция покинула Оренбург и после месяца трудов в пустыне направилась прямо в Самару, выбранную следующим местом ссылки высокого больного.
Самарская полиция доносила в Петербург, что жизнь Николая Константиновича в их городе протекает спокойно, если не считать демонстративных уклонений от богослужений в царские дни. Был он замечен также в либеральных тирадах и общении с разведенной женой, которую, «соблюдая приличия, лишь в поездках за город берет с собой».
«Его Высочество носит бороду, – сообщает самарский губернатор 9 октября 1878 года министру иностранных дел, – волосы на голове коротко острижены, лицо загорелое. Ходит в гражданском платье, притом весьма незатейливого покроя. Австрийская визитка со стоячим воротником, фуражка горохового цвета, все это вместе взятое производит на всех непривычное впечатление. Предупредительная внимательность и доброта обращения обратили внимание тех, кому довелось здесь видеться с Его Высочеством».
В неофициальных беседах приставленные к Николаю Константиновичу чиновники еще откровеннее отзывались о положительных чертах его характера. Так, А. Богданович, супруга старосты Исаакиевского собора, 6 апреля 1873 года записала в дневник, что у нее с визитом был граф Ростовцев и «говорил сегодня об этом молодом человеке, что он положительно серьезен, любит учиться, большой семьянин».
Константин Константинович отмечает в своем дневнике:
«У меня был Каразин, писатель и живописец, сделавший Хивинский поход и проведший полгода с Николой. Я много расспрашивал его о брате, Каразин от него в восторге. Скоро ли кончится мучительное положение, из которого бедному Николе не дают никакого выхода? Самого кроткого человека можно бы таким образом из терпения вывести, у Николы еще есть довольно силы выносить свое заключение и нравственную тюрьму» (18 ноября 1879 г.).
Сил хватало даже противиться волеизъявлению государя, запретившему племяннику общаться с полицмейстерской дочкой. Надежда Александровна лучше придворных врачей умела лечить душевные недуги возлюбленного и, понимая, что нужна ему, согласилась даже отправиться вместе в очередную экспедицию к истокам Амударьи (28 июня – 26 ноября 1879 г.). Научная цель этого путешествия была особая – установить, возможен ли поворот Амударьи в древнее русло Узбой. Вернувшись, Николай Константинович написал книгу «Аму и Узбой», которая дышит любовью к пустынным землям Хивы и Бухары.
«Россия в течение последних двадцати пяти лет, – писал великий князь, – овладела большей частью Средней Азии, но некогда цветущий Туркестан достался русским в состоянии упадка. Он наделен от природы всеми благоприятными условиями для быстрого развития своих богатых производительных сил. Расширив оросительную сеть, раздвинув пределы оазисов, Туркестан можно сделать одной из лучших русских областей».
Начавший привыкать к Самаре Николай Константинович вдруг 17 августа 1880 года получил разрешение пользоваться морскими купаниями в Феодосии до конца октября, а потом ему предложили перебраться на временное жительство в усадьбу Пустынка под Петербургом. Казалось, близок конец мытарствам. Но поступки великого князя часто бывали непредсказуемы. Неожиданно он отказался покидать Самару. Лишь верный друг семьи его отца подполковник Павел Егорович Кеппен при личной встрече уговорил по-детски заупрямившегося тридцатилетнего великого князя не раздражать смягчившего свой гнев на Николу после собственного морганатического брака государя. (Ходили слухи, что и сам гнев-то исходил не от него, а от скончавшейся 21 мая 1880 года императрицы Марии Александровны.)
Чуть более четырех месяцев провел Николай Константинович в Пустынке, в нескольких десятках верст от любимого с детских лет Павловска, куда ему, к сожалению, запрещали показываться. Но часто навещавшие его отец и брат Дмитрий Константинович (Константин Константинович в это время был в многомесячном плавании) уверяли, что со дня на день грядет высочайшее прощение и тогда Никола будет волен жить, где захочет. Увы, не пришлось подышать долгожданным воздухом свободы. В роковой день 1 марта 1881 года освободитель крестьян Александр II, которого в последние годы террористы выслеживали и травили как дикого зверя, был убит.
Из дневника за 1881 год великого князя Константина Николаевича:
«2 марта. Телеграмма от Николы, который просит разрешения поклониться телу Государя. Говорил про это вечером Адлербергу, прося его выпросить разрешение Государя…
3 марта. Меня разбудили письмом от Адлерберга, что Государь не соглашается разрешить просьбу Николе, так как приезд его в город не разрешался. Сделало мне крайне тяжелое и неприятное впечатление… В 4 ч[аса] у меня Кеппен и говорил про сильное волнение Николы и не берется ему передавать отказ…
10 марта. После обеда Кеппен рассказывал теперешнюю грустную картину Николы, как он до сих пор не хотел присягать и хотел возвратить Андреевский орден. Положительно, у него теперь фазис усиления душевной болезни».
Из дневника за 1881 год государственного секретаря Е. А. Перетца:
«28 марта. Арестован Великий Князь Николай Константинович и перевезен в Павловск, где содержится в местном правлении, именуемом крепостью. Крепость эта – такой же дом, как и все другие, но выбрана она потому, что есть единственное здание в Павловске из состоящих в распоряжении правительства, которое отапливается зимою. Причиною ареста – отчасти сумасбродные выходки молодого Великого Князя по кончине покойного Императора, вроде следующих: когда ему не было дозволено приехать на погребение, он сказал, что если его считают сумасшедшим, то не будет и присягать, так как сумасшедших к присяге не приводят; затем он угрожал, что наденет Андреевскую ленту и пойдет в народ».
С первых дней своего правления Александр III поделил русское общество на нигилистов и радетелей за самодержавие. Николай Константинович; по слухам, принадлежал к первым, к тому же был сыном известного либерала, ратующего за конституцию, что и послужило основными причинами тюремного заточения и дальнейших злоключений. Никто из августейшего семейства не заступился за несчастного. Спас от пожизненной тюрьмы своего воспитанника все тот же подполковник Кеппен, умело составив нижеприведенную записку и добившись через влиятельных знакомых, чтобы она легла на стол Александра III:
«Семь лет тянется уже грустная история признанной болезни Великого Князя Николая Константиновича. В эти семь лет Его Высочество десять раз переводился с одного конца России на другой… Более двадцати лиц перебывало в это время при Великом Князе в качестве врачей, распорядителей и состоящих. Немало разных взглядов, приемов и даже систем практиковалось в отношении к Его Высочеству, немало произведено было более или менее удачных экспериментов, и надо сознаться, что теперь, по истечении семи лет, положение Великого Князя Николая Константиновича не только не установилось в определенных точно границах, но до невозможности осложнилось и запуталось…
В Бозе почивший Государь Император изволил высказывать неоднократно Свою волю, чтобы в отношении к Великому Князю Николаю Константиновичу был применим точный смысл касающихся душевнобольных законоположений, с теми отступлениями от формы, какие могли быть вызываемы Высоким рождением больного…
Высокое положение Николая Константиновича, обширные и разнообразные знакомства, сделанные им в невольных переездах по России и, в особенности, в условиях жизни последних лет, Его значительные денежные затраты на изучение среднеазиатских путей, Его печатные труды по вопросам первостепенной важности для нашего Юго-востока, наконец таинственное значение, приданное Ему в последние дни, – все это привлекает к Николаю Константиновичу общественный интерес и внимание… Вчерашний государственный изменник завтра в устах молвы обратится в несчастного угнетаемого…».
Далее Кеппен пытается внушить императору, что заключение Николая Константиновича в крепость ничего не принесет кроме вреда, судьба великого князя вызовет общественное изумление и сочувствие. Пойдут легенды, он станет мучеником за правду, народным заступником. Да и странно требовать от человека, признанного врачами ненормальным, безупречности в образе мыслей и поступков. Вместо темницы нужно упростить его положение, дать возможность деятельного труда.
Чтобы он не докучал своим озлобленным августейшим родственникам, Кеппену пришлось предложить переселить великого князя за тысячи километров от Петербурга – в Туркестан. Благо, тот уже знает не понаслышке об этой далекой окраине России и может стать в крае полезным человеком.
Решено – темница заменяется ссылкой в Ташкент, куда Николая Константиновича отправили летом 1881 года, а впереди полетело предуведомление генерал-губернатору, что «основываясь на Высочайшем указе о болезненном состоянии Великого Князя, обращение с Его Высочеством должно быть как с частным лицом, а не членом Императорского Дома».
Ташкент как населенный оазис известен с IV–V веков, а в XI веке получил нынешнее название. В 1865 году его штурмом взяли русские войска под командованием генерала М. Г. Черняева и окрестные земли были присоединены к России. В этом самом многочисленном на территории Туркестана городе проживало сто тысяч человек местного населения и находились на постое пятнадцать тысяч русских солдат и офицеров. Он был разделен на две части: Новый Ташкент – с православным собором, дворцом генерал-губернатора, кабаками и публичными домами – пристанище русских войск, и Старый Ташкент – с мечетями, бедными жилищами за глиняными заборами, шумными базарами – родина сартов в чалмах и пестрых халатах, туркменов в коротких бешметах, туземных евреев в черных шапочках.
Русские жили без семей, как в военном лагере, со всеми его пороками – кутежами, развратом и азартными играми. Этот город с ненормальной атмосферой пребывания в недавно завоеванной стране, к которой примешивался удушливый дневной зной и боязнь газавата, стал второй родиной великого князя, пережившего в Туркестане царствование и Александра III, и Николая II.
Николай Константинович 2 января 1885 года пишет родителям, которых ему больше не сужено видеть: «Глубоко тронут Вашей телеграммой, милые Папа и Мама. Прекрасное пожелание Ваше надеюсь исполнить с Божьей помощью в этом году. Любимые мои занятия и путешествия для орошения пустыни помогут мне гораздо больше, чем приморское лечение. Мне бы не хотелось покидать Среднюю Азию, куда я всегда стремился и где много работал. От всей души и крепко Вас обнимаю. Никола».
Петербург благодаря чьим-то хлопотам даже дал добро на поездку высокого больного для лечения и отдыха в Ниццу, но он, всегда упрямый и самолюбивый, отвечал: «…последнее будет сопряжено с большими хлопотами, а я уже утомился бесконечными переездами с места на место».
Наследственные права старшего сына по императорскому указу перешли от Николая Константиновича к Константину Константиновичу Вместо ежегодно положенных двухсот с лишним тысяч от канцелярии уделов опальный великий князь ежемесячно получал двенадцать тысяч рублей, но при этом, пуская деньги в прибыльный оборот, стал к началу XX века миллионером.
Жил он без особой роскоши по сравнению с другими великими князьями, которым миллионы доставались без всякого труда. Самые дорогие вещицы в его ташкентском доме были подарками хивинского хана и бухарского эмира – персидские ковры и старинные кинжалы с дамасскими клинками. Спал Николай Константинович на полу, на тюфяке, прикрывшись красным кумачовым покрывалом. Личные денежные траты ограничивались женщинами и попойками, что стоило в Ташкенте намного дешевле, чем в Петербурге или Ницце.
Продолжая жить вместе с Н. А. Драйер, великий князь не переставал посещать любовниц, приблизил к себе казачку Дарью Чесовитину называя ее царицей, супругой царя Голодной Степи. Когда Надежда Александровна в 1902 году отправилась в Петербург на свидание с детьми, получившими дворянство и фамилию Искандер, Николай Константинович, которому шел уже шестой десяток лет, вздумал жениться на пятнадцатилетней гимназистке Хмельницкой.
– А как же Надежда Александровна? – спросили его.
– Что ж, – не смутился великий князь, – она останется со мной и будет другом, а маленькая Валерия – женой.
Второе по счету тайное бракосочетание было совершено 7 марта 1900 года. Теперь настала очередь возмутиться сыну Александра III – императору Николаю II. К великому князю, по обычаю в дни высочайшего гнева, направили заранее проинструктированных врачей. Они напустили на себя важность, ученый вид и целыми днями без устали обстукивали и расспрашивали высокого больного, после чего составили медицинское заключение, которое должно было понравиться августейшему семейству:
«Патологический характер и склад ума августейшего больного останутся навсегда такими, какими были с ранней молодости, поэтому нельзя надеяться какими бы то ни было мерами исправить его характер, изменить его способ мышления, привить ему другие чувства или искоренить его безнравственные тенденции, а потому он и впредь будет склонен к совершению предосудительных поступков, вредных ему и окружающим. Необходимо ограничить его свободу действий до известной степени, подчинив его чужой разумной воле».
Но, может быть, любовные утехи Николая Константиновича были лишь поводом ужесточить за ним контроль? Может быть, более волновало Петербург другое заключение комиссии по обследованию здоровья великого князя, в котором указывалось, что его занятие ирригацией степи вызывает «неудобство от постоянного соприкосновения августейшего больного с простым народом»? Недаром же во врачебном заключении от 21 октября 1902 года подчеркивались пропитанные бунтарским духом слова великого князя о себе: «Народная любовь и благодарность бесхитростных простых людей Туркестана будут посильнее бронзовых памятников и мавзолеев». Уж не о памятниках ли покойным государям Александру II и Александру III идет речь? А с каким сарказмом он отзывается о нынешней власти: «Пусть весь мир видит, как русское правительство ценит и награждает людей, посвятивших ему жизнь и свои труды!»
И в самом деле, жизнь Николая Константиновича изобилует трудами на благо Средней Азии. Он устроил между Ташкентом и Джизаком канал имени императора Николая I длиною в 60 верст, орошавший около восьми тысяч хлопковых делянок Голодной Степи, – и так превратил эти пустынные земли в один из плодороднейших уголков Туркестана. Построил здесь семь поселков: Николаевский, Конногвардейский, Романовский, Надеждинский, Верхне-Волынский, Нижне-Волынский и Обетованный. Поселил в них стекавшихся к нему хлыстов, оренбургских казаков, туркестанских отставных солдат и беглых сибирских каторжников. Провел из реки Чичик Искандер-арык (канал) и заложил на его берегу селение Искандер, где разместил высланных с Кавказа молокан. Открыл на окраине Ташкента хлебопекарню, шелкоразмоточную и ткацкую фабрики, для которых выписал современные заграничные машины, и провел в рабочие помещения электрический свет, применявшийся до сих пор главным образом для освещения дворцов Петербурга и Москвы.
В Ташкенте строил, наверное, больше, чем все русское правительство. Это и благотворительные постройки – дешевые квартиры для отслуживших свой срок солдат, Дом инвалидов для воинов-туркестанцев, Дом офицеров-туркестанцев, и коммерческие – гостиничные номера «Старая Франция», ставшие обиталищем женщин легкого поведения, кинематограф «Хива». Кроме того, скупал в городе дома и сдавал их внаем.
Он подарил Туркестанской публичной библиотеке в 1836 году пять тысяч собранных книг, а по духовному завещанию городу также досталась его ценная коллекция картин.
Много в долгой жизни Николая Константиновича было и неблаговидных поступков, о них-то главным образом и рассказывалось в отчетах, которые ложились на стол императоров. У людей же, в чьи служебные обязанности не входило огульное охаивание великого князя, выработалось собственное мнение.
«В крае его признавали человеком умным, толковым и сравнительно простым» (граф С. Ю. Витте, председатель Кабинета министров).
«Умен, говорит с юмором о своих родственниках… За орошение части Голодной Степи Государь дал ему триста тысяч для постройки дворца в Голодной Степи. Великий Князь просил Государя позволить ему на эти деньги построить театр в Ташкенте и подарить его городу. "Я хочу иметь лучше маленькую ложу в театре, чем большой дворец в Голодной Степи, – писал он Государю. – Но меня так любят, что, наверное, откажут в моей просьбе"» (князь В. В. Барятинский, писатель).
«В первое воскресенье был у меня Великий Князь и опять с букетом. Он очаровал меня простотой своего обращения, мил и любезен донельзя, разговор его блещет остроумием и юмором» (Варвара Духовская, жена туркестанского генерал-губернатора).
«Я всегда поражался той неутомимой деятельности покойного по проведению начальной оросительной системы Голодной Степи, а также сооружению моста через Сыр-Дарью, и все это без помощи ученых инженеров. Да и кто, я думаю, не знает покойного Николая Константиновича из жителей Туркестана как человека – народного труженика, сеятеля культуры, давшего не одной сотне трудящихся рабочих хлеб и жилище» (А. Новицкий, служащий на станции Хилково Среднеазиатской железной дороги).
Увы, члены августейшего семейства не разделяли их мнения. И не только современники. В 2002 году на русском языке выпустил биографию своего двоюродного деда князь Михаил Греческий (внук Ольги Константиновны). Этот бульварный роман под названием «В семье не без урода» (уродом назван великий князь Николай Константинович) изобилует массой ошибок, высокомерным отношением автора к людям и просто-напросто бескультурьем. Права была сестра последнего российского императора Ксения Александровна, посетовавшая, уже живя в эмиграции, митрополиту Нестору: «Мы, Романовы, вырождаемся».
Когда 13 января 1918 года Николай Константинович скончался от воспаления легких на руках внебрачной дочери Дани Часовитиной, ему устроили пышные, воистину царские похороны несмотря на то, что власть в Ташкенте уже принадлежала большевикам. В сквере у военного Георгиевского собора, где в специальном склепе нашли успокоение бренные останки высокого больного, собралось полгорода, и все искренне сожалели об утрате столь яркой натуры.
Николай Константинович, обычно с насмешкой отзывавшийся о своих августейших родственниках, о брате всегда говорил с добротой: «У Константина чрезвычайно нежное сердце». Но они с годами отвыкли друг от друга, Константин Константинович лишь изредка вспоминал о стершем брате.
«Я написал Николе, кажется, в первый раз в жизни. Ему сегодня минуло тридцать лет» (2 февраля 1880 г.).
«Несколько дней тому назад мы узнали из письма Мама, что Никола в Ташкенте приступил к прорытию какого-то канала и обставил закладку работ некоторой торжественностью: был приглашен во главе местных властей генерал Черняев, отслужили молебен – и все это в самый день рождения Государя. Вдруг из Петербурга пришел запрет на продолжение работ. Итак, Николе придется за все платить из собственного кармана» (23 марта 1883 г.).
«Бедному Николе сего 36 лет. Я послал ему в Ташкент книжку своего перевода "Мессинской невесты"» (2 февраля 1886 г.).
«Вчера ко мне приезжал молодой психиатр Чехов, который с февраля по май пробыл у Николы в Туркестане, был и в Голодной Степи, и в Ташкенте и присмотрелся к Николиному образу жизни. В его рассказах мало утешительного, несмотря на то, что он вовсе не склонен преувеличивать. Напротив того, он, скорее, смотрит недостаточно мрачно, и все-таки у слушателя получается впечатление чего-то невозможно разнузданного, дикого и болезненного» (28 августа 1897 г.).
«Ездил к министру Двора барону Фредериксу говорить о Николе. Он, Фридерикс, смотрит на это трудное дело правильнее генерал-губернатора Духовского, который за один год не успел всесторонне разобрать характер Николы и находится под его обаянием» (26 марта 1899 г.).
«Проснулся в Твери с головной болью. Будя меня, Миша Репин доложил мне, что Никола на вокзале. Он пришел в вагон и, пока я одевался, беседовал с Палиголиком в соседнем отделении. Мне слышался его неприятный, какой-то визгливый и как будто несоответствующий наружности голос. Одевшись, пошел к нему. Мы обнялись, и Павел Егорович оставил нас вдвоем. Чувствовал себя крайне неловко, и, думаю, Никола испытывал то же самое, мы говорили много, но все о ненужном ни ему, ни мне, как бы опасаясь затронуть другие вопросы… Прощаясь со мной, Никола был, видимо, тронут и прослезился. Жалко его! Болезнь (душевная) уничтожила в нем сознание добра и зла, он является жертвой человечества и государства, заключенной в заколдованный круг, из которого нет выхода» (6 апреля 1901 г.).
«Николу я известил об опасном положении Мама. Мне он ответил в общих выражениях, а Палиголику телеграфировал, прося выхлопотать ему разрешение к нам приехать. Подобные же просьбы высказывал он, когда умирали Вячеслав в 1879 году, Государь в 1881-м и Папа в 1892-м, но приезд ни разу не мог быть разрешен в видах его же собственного положения. Приехать бы ему еще можно, хотя здесь было бы и ему, и всем крайне неловко и щекотливо. А как потом уехать и вернуться к обыкновенным жизненным условиям?» (13 июня 1903 г.).
«Самсонов повез меня прямо во дворец к Николе. Я внутренне волновался перед свиданием с ним после десятилетней разлуки. Но встреча, может быть благодаря присутствию Над. Алекс. Искандер (жены Николы), обошлась не только благополучно, но и приятно. С час провели втроем в непринужденной беседе. Оттуда поехал в корпус» (17 октября 1911 г.).
Константина Константиновича, привыкшего к манерам высшего света, коробили грубые и дерзкие поступки Николая Константиновича. И все же он не отрекался от старшего брата – он жалел его.
Осенью 1913 года в Туркестане праздновали открытие казенных оросительных сооружений Голодной Степи, начало которым положил на свои личные средства опальный великий князь. Константин Константинович решился в эти дни написать Николаю II письмо, объясняя, что правительственные чиновники по отношению к Николаю Константиновичу «нередко бывали несправедливы, признавая его душевнобольным и в то же время карая, как преступника». Константин Константинович просил государя смягчить положение старшего брата. Ответа не последовало.
«По-видимому, мое письмо Государю о Николе никакого действия не возымело» (6 октября 1913 г.).