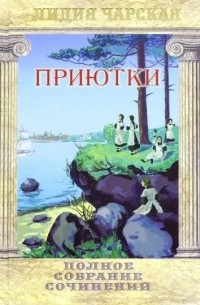Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава восьмая
Время – лучший целитель всех переживаемых потрясений… Залечило время и страшное пережитое впечатление катастрофы с лодкой. Снова все вошло по-старому в свою колею. В конце августа переехали в город. Опустела приютская дача в Дюнах… Новые события затемнили впечатление жуткого летнего происшествия в заливе. Дуня, Дорушка, Любочка и Оня должны были этой осенью покинуть приют. Дорушка отправлялась к матери в ее только что открывшуюся мастерскую. Три другие девушки – в школу учительниц, вернее, в устроенный при ней интернат.
Последний вечер провели в церкви… Была суббота. Ходили ко всенощной.
Теперь Дуне и Дорушке приходилось петь на клиросе, вернее, подтягивать подругам, так как никакого голоса не было ни у той, ни у другой. Фимочка сердился в этот вечер меньше, хотя девушки, рассеянные донельзя предстоявшим им на завтра отъездом, фальшивили как никогда.
И самого Фимочку волновало «событие». Уезжала и Оня Лихарева, его помощник и второй регент приюта.
Надо было выбирать нового на смену выходившей из приюта девушке, а такой выбор постоянно стоил больших затруднений желчному и вечно нервному учителю пения.
В последний раз пропели «Взбранной Воеводе» четыре девушки… В последний раз оглядела затуманенными глазами Дуня знакомую обстановку богаделенской церкви, где столько раз за восемь лет молилась она несложной детской молитвой. Прислушивалась к голосу строгого, но бесконечно справедливого и чуткого отца Модеста… Глядела на стоявшую поодаль у левого клироса со своими стрижками горбатенькую добрую тетю Лелю, ее ангела-хранителя за все эти восемь лет, проведенных в приюте. Сейчас Дуня чувствовала сильную грусть покидать насиженное гнездо добрых воспитательниц и подруг, относившихся к ней так ласково и сердечно.
– Никак разрюмилась? – шепнула ей Оня Лихарева, выходя на паперть и заглядывая в лицо подруги. – Ай, девушка, не страшись! Смеху подобно! Два года поучишься, а там в деревню махнешь! В деревню! Подумать надо!
– Деревня!
Вся отхлынувшая было радость снова жгуче-сладкой волной затопила сердечко Дуни.
Да! Да! Да! Права Оня! Еще два года, и мечта всей маленькой Дуниной жизни сбудется наконец! Она увидит снова поля, леса, золотые нивы, бедные, покосившиеся домики-избушки, все то, что привыкла любить с детства и к чему тянется теперь, как мотылек к свету, ее изголодавшаяся за годы разлуки с родной обстановкой душа. Что-то радостно и звонко, как песня жаворонка, запело в сердечке Дуни. Она прояснившимися глазами взглянула на Оню и радостно-радостно произнесла:
– Правда твоя! В родимые места меня тянет! Ах, Онюшка, счастье-то какое! А все же жалко да горько оставлять добрых людей.
На следующее утро девушки уезжали…
Горько рыдала Дуня в объятиях напутствующей ее горбуньи…
– Будь всегда тем, чем была до сих пор, моя чистая, кроткая девочка, живи для других, и самой тебе легче и проще будет казаться жизнь! – улыбаясь сквозь обильно струившиеся по лицу ее слезы, говорила тетя Леля, прижимая Дуню к груди…
Трогательно прощались уезжающие с начальством, подругами и служащими приюта.
С опухшими от слез глазами вышли девушки на приютский подъезд…
Навстречу им выглянуло скупое осеннее солнце, словно золотой своей улыбкой ободряя перед порогом жизни эти четыре юных неопытных существа.
– Светлым деньком началась наша «воля», – проговорила Оня Лихарева, растроганная и взволнованная не менее других. – Хорошая примета, нечего и говорить.
– Приходи, навещай меня, Дорушка, пока я буду учиться в школе, – шептала с мольбою своей подружке Дуня, пока приютский сторож с нянькой Варварой уставляли на извозчика весь несложный багаж выпущенных из приюта воспитанниц.
Та в ответ молча кивнула головкой и крепко сжала тонкие пальчики подруги.
Солнце по-прежнему сияло ярко и лучисто, освещая первый самостоятельный путь четырех девушек и словно обещая дарить им свои яркие улыбки и дальше, во всю их последующую жизнь…
А на подъезде приюта стояла маленькая фигура горбуньи, тонкие худенькие пальцы которой спешно крестили мелкими крестами вслед отъезжавшую молодежь…