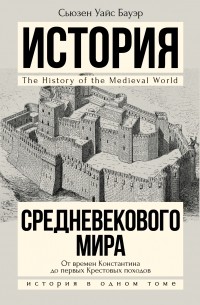Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава шестнадцатая. Гунны
Между 423 и 450 годами племя вандалов создает в Северной Африке свое королевство, римский епископ становится папой, Флавий Аэций захватывает Западную Европу, а гунны подступают к ее границам
Пока Восточная Римская империя принимала посольства божьи, Западная империя боролась за выживание. Британия опустела, при Валии и его наследниках вестготы в юго-западной Галлии процветали, будучи союзниками Рима, но при этом оставаясь независимым народом. Несмотря на совместные усилия римско-вестготской армии, вандалы все же захватили большую часть Испании, создав там собственное государство и пресекая все попытки римлян вернуть свою бывшую провинцию.
Правитель Западной Римской империи Флавий Гонорий Август скончался в 423 году. Борьба за власть заняла почти год, и в итоге императором был провозглашен его шестилетний племянник Валентиниан III – сын сестры Гонория Галлы Плацидии и её второго мужа, полководца Констанция III. Галла Плацидия, регентша при малолетнем сыне, скоро была вынуждена назначить магистром армии римского солдата Аэция, который к тому времени успел побывать заложником для гарантии мира сначала у вестготов, а после у гуннов.
Гунны отпустили Аэция за некоторое время до описанных событий, хотя неизвестно, когда точно, это случилось. Но за годы, проведенные среди гуннов, он сдружился с ними. После смерти Гонория двадцатипятилетний Аэций, закаленный годами изгнания и привычный к сложным ситуациям, заявил Галле Плацидии, что его друзья-гунны придут и захватят Равенну, если его не назначат на самую высокую военную должность в западных землях. Галла Плацидия наделила его и титулом, и соответствующей властью.
Приближение гуннов
В это же время другая часть западной империи погибала.
В 429 году Гейзерих, вождь племени вандалов, обосновавшегося в Испании, построил флотилию и переплыл Средиземное море. Он начал поход вдоль побережья Северной Африки, завоевывая одну территорию за другой – ему было безразлично, римские ли это провинции либо независимые африканские государства. К 430 году он дошел до города Гиппон Регий. Его армия окружила город, где лежал, будучи смертельно болен, епископ Аврелий Августин. Осада длилась полтора года. Тот, кто принес славу Царствию Божьему, умер в городе, окруженном вандалами, без надежды на спасенье.
Гиппон пал, и Гейзерих пошел на Карфаген. Город был захвачен в 431 году; Гейзерих выстроил в шеренгу римских солдат, защищавших город, и заставил их поклясться, что они более никогда не выйдут против армии вандалов, а после отпустил. Так Рим потерял Северную Африку.
Вскоре Гейзерих решил сосредоточиться на своих североафриканских владениях. Он покинул Испанию и стал королем-разбойником Северной Африки. Отныне Карфаген был его штаб-квартирой, столицей могущественного государства вандалов, выросшего быстро, как гриб.
Аэций, магистр армии и самый влиятельный человек в Западной Римской империи, не пытался вернуть её владения за Средиземным морем. Он отослал номинального императора Валентиниана III с визитом в Константинополь, где девятнадцатилетний Валентиниан женился на дочери своего соправителя. Этот союз объединил две половины империи. Пока император отсутствовал, Аэций пошел войной на Галлию.
Северная Африка была потеряна для Рима, вестготы прочно обосновались в юго-западной Галлии, а Испания была слишком далеко, чтобы отвоевывать её. Некоторые её части достались другому германскому племени – свевам. Вестготы начали прорываться в земли, оставленные вандалами. Но Аэций сдавать свои северо-западные рубежи не собирался. Он уже подавил восстание франков, живших на римских территориях на правах федератов. Теперь он созвал армию и выступил против бургундов, еще одного германского племени, жившего на правах федератов в долине Рейна. Их король Гундахар, сделавший своей столицей Бор-бетомагус (позже – Вормс), демонстрировал тревожное стремление к независимости.
Аэций пригласил гуннских наемников и с ними пошел боем на германских выскочек. В кровавой битве 437 года римляне с гуннами уничтожили Борбетомагус, разбили войско бургундов и убили Гундахара. Эта резня сохранилась в преданиях германских племен и вошла в «Песнь о Нибелунгах». Имя бургундского короля Гундахара преобразилось в Гунтера. В начале повествования он принимает драконоборца Зигфрида у себя при дворе, а в конце отправляется в земли гуннов, где его вероломно убивают.
Аэций долгие годы использовал гуннов для укрепления собственной власти. Но гунны не были покорными наемниками – и Аэций сам оказался среди проигравших в этой опасной игре.
До этого гунны не предпринимали продолжительных набегов на Рим. Истории об их нечеловеческой дикости и силе были в основном продуктом римской историографии. «Они внушали величайший ужас своим страшным видом… – писал Иордан, – их облик пугал своей чернотой, походя не на лицо, а если можно так сказать, на безобразный комок с дырами вместо глаз»1 Однако не гунны были главной угрозой империи. Их набеги, тревожившие границы, были разрушительными и страшными – но гунны всегда отступали.
Гунны не совершали длительных нападений, потому что никогда не были единой силой. Как и германские варвары, они были союзом племен, не придерживавшихся твердой верности друг другу. «Не знают они над собой строгой царской власти, – рассказывал Аммиан Марцеллин, – но, довольствуясь случайным предводительством кого-нибудь из своих старейшин, сокрушают всё, что встретят на пути». Гунны не сажали злаки и не возделывали землю; они выращивали скот, перебираясь с места на место в поисках пастбищ для своих коров, коз и овец – следовательно, чтобы прокормиться, им требовались большие территории. Гунны жили небольшими кочевыми общинами: их было проще обеспечить, и экономически они были стабильнее, чем постоянные крупные группы. Они не собирались завоевывать мир. Они просто пытались выжить.2
Но когда Аэций нанимал независимые отряды гуннов, чтобы те воевали за него, социум гуннов уже менялся. За прошедшие десятилетия они перешли с бедных земель на восточных берегах Черного моря на относительно богатые и окультуренные земли готов. Это позволяло им обеспечивать себя пропитанием новыми способами и собираться в гораздо более крупные общины.
Около 432 года военачальник Руа (Ругила), дядя молодого заложника Аттилы, вернувшегося в родное племя после нескольких лет, проведенных в Равенне, добился власти над другими племенами гуннов. К 434 году Аттила и его брат Бледа унаследовали от дяди титулы вождей растущего союза гуннов. Шесть лет спустя Аттила и Бледа повели объединенную армию гуннов на римскую крепость, стоящую на Дунае. Они продолжали набеги на римский берег, нападая на форты и города, пока в 441 году не отступили, согласившись на мирные переговоры.3
В течение двух лет гунны придерживались принятого договора. Затем в 443 году они двинулись на Константинополь с таранами и осадными машинами. Феодосий II, оценив приближающиеся силы, рассудил, что разумнее не драться, а договориться, и откупился от гуннов, согласившись выплачивать им ежегодную дань. Гунны снова отступили, и на некоторое время в империи воцарился покой.
Незадолго до отступления из Константинополя Аттила убил своего брата Бледу и провозгласил себя единственным царем своего народа. Мирные договоры с Западной и Восточной Римскими империями обеспечили гуннам условия, когда из свободного союза племен они превращались в беспощадную орду завоевателей. Опальный епископ Несторий во многословном обосновании собственных религиозных убеждений (его книга лишь косвенно касается других событий того периода), отмечал, что гунны прежде были «разделены на народы» и являлись обычными грабителями, «всё зло от которых происходило от их ненасытности и быстроты». Но теперь они создали государство «настолько сильное, что его могущество превосходит все силы Рима».4
Гунны уже стояли у дверей Западной и Восточной Римских империй, а императоры все еще были заняты теологическими спорами.
В 444 году новый римский епископ Лев I написал епископу Фессалоникийскому официальное письмо, в котором недвусмысленно выразил убеждение, что епископ Римский, наследник Петра – единственное лицо духовного сана, имеющее право выносить окончательные решения в делах христианской церкви. По мнению Льва I, епископ Фессалоникийский превысил свои полномочия, призвав к мирскому суду своего прихода другого епископа. Какой бы ни была причина привлечения к суду, Лев I утверждал, что лишь у Рима есть право решать судьбу других епископов:
«Даже если он совершил тяжкие и непростительные проступки, вы должны дождаться нашего заключения и не решать ничего сами, пока не узнаете нашу волю… Хотя сан всех священников одинаков, ранги их различаются. Даже святые апостолы, сколь ни равны они были в своём уважаемом сане, обладали разными полномочиями. Хотя они были равны между собой, одному из них было дано повести за собой остальных. Таков образец, по которому строятся разграничения среди епископов… заботы католической церкви должны восходить к престолу Петра, и ничто нигде не должно происходить без согласия её главы».5
В своём стремлении к власти епископ Лев не ограничился этим письмом. Он обратился со своими требованиями к императору, и в 445 году Валентиниан III, на которого всё еще имел большое влияние его магистр армии Аэций, согласился издать декрет, провозглашавший Римского епископа официальным главой христианской церкви. Лев I Великий, епископ Римский, стал первым Папой Римским.
То, что Лев потребовал от императора подтверждения его полномочий, разъярило епископа Александрийского. В 431 году епископы Рима и Александрии были союзниками на Эфесском соборе – но с тех пор могущество Александрии возросло. Епископ Римский видел в тогдашнем епископе Александрийском, Диоскоре, своего главного соперника в борьбе как за духовную власть, так и за благосклонность императора.
Диоскор также не доверял Льву I Великому, пытаясь дать ему духовный отпор. Хотя они оба были монофизитами (сторонниками идеи о «единой природе» Христа), версия Диоскора была более радикальной, нежели версия Льва. Он настаивал на том, что «две природы Христа воплотились в единой божественной». Эта трактовка почти граничила с ересью, поскольку не придавала значения человеческой природе Христа.6
В 449 году Диоскор спешно созвал синод в Эфесе и в короткие сроки уговорил епископов, которые смогли приехать, подписать документ, подтверждавший, что его версия монофизитства и есть правоверная. Если верить дальнейшим свидетельствам, некоторые епископы подписывали пустые листы (религиозное содержание в них добавили уже потом). Другие не подписывали ничего – и чудесным образом обнаружили свои имена под монофизитским манифестом. Всё это обеспечило синоду название Разбойничьего – этот термин обозначал незаконность собора. Диоскор оправдывал свои действия, объявив патриарха Константинополя еретиком и отлучив от церкви отсутствующего епископа Римского. Это была очевидная попытка отобрать права у Рима, передав их Александрии. В ответ на это Лев I отлучил от церкви всех, кто присутствовал на синоде.
Поскольку священнослужители отлучили от церкви друг друга, борьба за духовную власть временно зашла в тупик. А в то время, как епископы объявляли друг другу анафему, в Константинополе объявились два посланца Аттилы с угрозами от своего правителя.
Посланцы эти были очень разными. Один был гунном, другой, рожденный в Риме – германских кровей. Звали его Орест. Угрозы были дипломатически завуалированы. Аттила сообщал Восточной Римской империи о том, что разрывает мирный договор и требует прислать в Сардику послов «наивысшего сословия» для переговоров.7 Феодосий II и его советники наскоро созвали собрание, организовали группу послов и отправили её в штаб-квартиру Аттилы. Один из них, историк Приск, позже записал свои воспоминания о путешествии послов Восточной Римской империи на оккупированные гуннами территории. Проходя через разоренный город Ниш, родину Константина Великого, они увидели, что от поселения остались лишь груды камней. Кости погибших защитников города устилали землю так густо, что путешественники не нашли свободного места для ночлега.8
В пути послы восточной империи встретились с послами из Равенны, которые также надеялись на мирные переговоры с Аттилой. Вместе представители обеих половин империи, наконец, прибыли в стан Аттилы – своего рода временную столицу, лежавшую на противоположном берегу Дуная. Приск был поражен мастерством гуннов; это был, по его словам, «скорее большой город», нежели деревня. Стены деревянных зданий были «сделаны из обструганных до блеска досок… обеденные залы огромны, портики красиво спланированы, обводы же внутреннего двора столь обширны, что по одному только его размеру можно было понять, что это царский дворец».9
Переговоры выдались трудными – Аттила не стремился к легкому миру. В итоге положение спасли римские послы от Аэция. Аэций, знавший гуннов лучше всех, предложил Аттиле условия, которые тот принял. Когда оба посольства откланялись, Аттила согласился воздержаться от нападений и на Восточную, и на Западную Римскую империи.10
Но этот временный мир был осложнен неожиданными событиями.
Сестра Валентиниана Гонория провела при дворе в Риме большую часть своей жизни. В 449 году ей исполнился тридцать один год, и жизнь её становилась чем дальше, тем скучнее. Она была не замужем, и, хотя имела большие привилегии как сестра императора, его подрастающие дочери уже начали затмевать её. Лучом света в её жизни был придворный Евгений, ставший ей любовником.11
Но в 449 году брат узнал об этой интрижке и узрел в ней опасность: если бы Гонория вышла замуж за Евгения, они могли бы стать императором и императрицей, поскольку у самого Валентиниана наследника не было. Он арестовал Евгения, убил его и приказал сестре выйти замуж за пожилого римского сенатора Геркулана, искренне преданного императору и «способного воспротивиться, если супруга решит втянуть его в честолюбивую аферу или бунт».12
Гонория была напугана. Она послала одного из своих слуг в опасный путь – в лагерь Аттилы с деньгами, кольцом и обещанием: если Аттила придет к ней на помощь, она выйдет за него замуж. «Поистине – это позор, – сокрушался Иордан, – отстаивать свою страсть ценой общественного блага».13
Однако Гонория не питала страсти к Аттиле. Он, безусловно, обладал харизмой, но был на двенадцать лет старше её и, по описанию очевидцев, невзрачной внешности: приземистый, с маленькими глазками и большим носом. Но в нём она увидела выход из скучной и бессмысленной жизни. Выйди она замуж за Аттилу, уже он стал бы императором Рима, а она – императрицей. И даже если он не победит её брата, она всё равно стала бы королевой гуннов.
Аттила сразу принял предложение. Он написал письмо не Валентиниану, но Феодосию II, более влиятельному из двух императоров, требуя не только Гонорию в жены, но и половину западноримских территорий в качестве приданого. Феодосий сразу же написал Валентиниану, предлагая ему выполнить требования Аттилы, чтобы избежать вторжения гуннов.
Валентиниан пришел в ярость, узнав о плане сестры и предложении Феодосия. Он пытал и обезглавил слугу, принесшего послание от Гонории, и угрожал сестре насилием, но его мать, Галла Плацидия, сама побывшая замужем за варваром Атаульфом, вмешалась и защитила принцессу. Валентиниан наотрез отказался принимать условия Аттилы.
В этот щекотливый момент Феодосий II, страстный поклонник игры, напоминающей нынешнее поло, создавший даже стадион для неё в Константинополе, упал во время игры с коня и умер.14
Как и у Валентиниана II, у него не было наследника мужского пола. Самой могущественной личностью восточной империи стала его сестра Пульхерия, соправительница и императрица. Чтобы сохранить власть, Пульхерия избрала себе мужа, которым стал полководец Маркиан, бывший в Карфагене, когда Гейзерих захватил его у римлян восемнадцатью годами ранее. Тогда Маркиан принес клятву никогда не воевать с вандалами и был отпущен. Следующие два десятилетия он шел вверх по армейской карьерной лестнице. Ему пришлось согласиться даже на такое условие брака – не отнимать девственности Пульхерии. Условие он выполнил, и не удивительно – супруге шёл уже пятьдесят первый год…
Первым, что сделали супруги, став повелителями Востока, был вызов, брошенный Аттиле. Они отказались откупаться от него, как это делал Феодосий в страхе перед нападением гуннов на Константинополь. Они рисковали, так как Аттила мог пойти на них в атаку – но с другой стороны, у него появилась прекрасная причина для вторжения в земли Валентиниана.
Риск окупился сторицей. Аттила собрал армию (напуганные жители Западной Римской империи утверждали, что под его началом было полмиллиона человек) и начал поход на Запад.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХРОНОЛОГИЯ К ГЛАВЕ 16