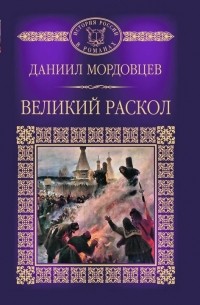Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
X. Суд над Никоном
Первого декабря 1666 года, едва лишь багровое солнце сквозь искристую морозную мглу осветило островерхие крыши кремлевского дворца и брызнуло золотом по маковкам церквей и по разрисованному морозом стеклу дворцовых окон и стеклянных переходов, как уж во дворце, в столовой избе, собрался небывалый дотоле и после того в России Вселенский собор – царь, два патриарха, митрополиты, архиереи и весь синклит духовных и светских властей. Алексей Михайлович сидел на своем государевом месте, на небольшом возвышении, под сению золотого двуглавого орла, на крыльях которого играло пробившееся сквозь льдистые кристаллы окна утреннее солнышко, золотя в то же время левый, уже посеребренный редкою седью висок и часть заиндевевшей тою же назойливою седью русой, мягкой, как шемаханский шелк, бороды. Тишайший царь сидел задумчиво, глубоко сосредоточенно и так неподвижно, что его можно было принять за иконописное изображение, если б тихое, равномерное поднятие и опускание висевшего на его груди большого золотого креста не изобличало, что эта грудь дышит. Подле него, по левую руку, в глубоких, с высокими резными спинками креслах сидели патриархи. У ближайшего к царю, высокого, худого и согбенного годами, темно-пергаментное лицо смотрело из-под надвинутого до бровей клобука не как лицо, а как лик на старом полотне, выцветший от времени, тронутый непогодью и копотью от свечей и ладана. Неровные пряди волос желтоватой седины и белая борода, освещенные косыми лучами солнца, несколько дрожали на черном фоне клобука и панагии, производя странное впечатление – как будто бы волосы эти дрожали на мертвом теле от постороннего дыхания, тем более что и глаза сидящего, глубоко опущенные, казались закрытыми тонкою, синеватою кожицею век, с которых, казалось, только что сняты были медные гроши – принадлежность новопреставленного. Это был Паисий, патриарх Александрии и всего Египта – некогда земли фараонов. Рядом с ним в таком же кресле восседал Антиохийский патриарх Макарий. Черные, курчавые, перевитые седыми прорезями, как серебряною тонкою нитью, волосы, черная, курчавая, как давно не стриженная баранья шерсть, с проседью борода, большие синеватые белки черных, подвижных глаз с длиннейшими ресницами, темно-оливковый цвет лица – все изобличало в нем восточного человека, которого как-то странно было видеть не на берегу Иордана где-нибудь или Мертвого моря, а на берегах Яузы, среди чисто московских лиц и в этой типичной обстановке.
С правой стороны царя, на застланных сукнами скамьях сидели митрополиты, архиереи и весь Освященный собор. Черные клобуки, надвинутые на худые и строгие лица, черные рясы, кресты и четки – все это смотрело мрачно и внушительно, как картина Страшного суда. Тут и Сергий Спасо-Ярославский, которого мы недавно видели на «черном соборе» в Соловках, и Павел Суздальский, и Павел Сарский, и Питирим Новгородский.
По левую сторону от царя, на скамьях же, бояре, окольничие и думные люди – все, что заправляло Московскою землею от Пскова до Албазина на Амуре, от Соловков до южного рубежа русской, все шире и шире разлетавшейся территории. Тут были лица большею частью хорошо упитанные, гладкие, бородатые.
За особым столом – дьяк Алмаз Иванов. Горы бумаг, книг и потемневших от времени свитков почти всего его закрывают собой. И лицо его, такое же желтое, как эти свитки, смотрит спокойно, только изредка щурятся его усталые глаза, перечитавшие все эти горы бумаги и перенесшие в его глубокую, как бездонная пропасть, память тысячи мельчайших подробностей дел, статей разных, уложений, указов, отписок, справок, памятей. Худыми, привычными пальцами он держит белое как снег гусиное перо и неслышно водит им по бумаге.
Тихо в избе. Собор ждет кого-то. Кого же больше ждать, как не того, кого собрались судить вселенне! В полночь он въехал в Москву и проследовал в Кремль Никольскими воротами, которые тотчас же за ним и заперли, поставив сильную стражу и разобрав даже мост, соединявший эти ворота с городом. Так вот какого страшного подсудимого ждет Вселенский собор!
Скоро за дверями столовой избы послышались чьи-то ровные, сильные шаги. Звякнули алебарды стрельцов, стоявших у входа. Какое-то невольное движение, словно дрожь, прошло по собору, как будто бы в тихий ясный день по безоблачному небу пронеслось облачко и провело бегучую тень по высокой траве. Глаза всего собора обратились к входным дверям – обратились с каким-то страхом, полные ожидания. И глаза царя блеснули неуловимым светом, и закрытые веками глаза Паисия патриарха открылись, словно бы икона глянула с темного полотна человеческими глазами, и глаза дьяка Алмаза Иванова поднялись от бумаги.
Двери распахнулись широко, на обе половинки, чтобы пропустить что-то большое. Это было распятие, несомое перед патриархом. За распятием вошел и тот, кого звали на суд. Невольная дрожь прошла по собору, когда увидали того, кто вошел. Это был все тот же прямой, суровый на вид, массивный человек, которого так часто когда-то, около десяти лет назад, видела Москва на всех торжественных служениях, в церковных ходах и в царской думе и перед взором которого все склонялось и трепетало; тот же повелительный вид, те же повелевающие глаза, только по всему этому прошло что-то разрушительное, пригибающее к земле, вытравляющее живой цвет лица, задувающее огонь глаз, обесцветившее до седины вороненый волос головы и бороды.
В добрых глазах царя блеснула жалость – веки задрожали… Это ли его бывший «собинный» друг, его любовь и гордость!..
При виде распятия и вошедшего за ним подсудимого весь собор стал на ноги.
– Владыко Господи Боже наш! Благослови вход раба Твоего и отверзи уста его, да возвестят хвалу Твою – всегда, ныне и присно и во веки веков! – громко возгласил вошедший.
Потом, обратясь лицом к царю, он поклонился ему до земли. Царь испустил глубокий вздох, увидав, как у поклонившегося ему разметались по полу поседевшие волосы. Поклонившийся встал и, откинув назад упавшие ему на лицо волосы, вторично припал клобуком к царскому подножию. Царь крепко стиснул челюсти, чтобы не заплакать. Поклонившийся, приподнявшись вторично от полу, в третий раз поклонился.
Сделав полуоборот к патриархам, он и им поклонился до земли дважды. За всеми его движениями жадно следили глаза всего собора, а узкие серые глазки Питирима, митрополита Новгородского, каждый поклон Никона сопровождали злорадным блеском.
Когда Никон поднялся, наконец, от полу, расправляя волосы, на лицо его, бледное и бесцветное, как у арестанта, набежала краска. Патриархи, в свою очередь, глубоко нагнули головы, а потом глазами указали на лавку, по правую сторону государева места.
Глянув в ту сторону, Никон сразу понял, что его приравнивают к простым архиереям, что особого места для него не приготовили. Зловещая искра блеснула в его глазах.
– Я места себе, где сесть, с собою не принес… Разве сесть мне тут, где я стою, – сказал он хрипло, с дрожью в голосе, и оперся на свой посох, глядя прямо в глаза государю.
И добрые глаза последнего блеснули: та искра, что зажглась в глазах у Никона, зажглась и у царя. Питирим незаметно толкнул локтем соседа своего, Павла, митрополита Сарского, и указал глазами на то, что происходило впереди. Перо дьяка Алмаза Иванова заскрипело по бумаге, спеша запечатлеть чернилами навеки этот исторический момент.
– Пришел я узнать, для чего Вселенские патриархи меня звали? – продолжал подсудимый тоном допрашивающего, тоном судьи, и снова вопрошающе посмотрел на государя.