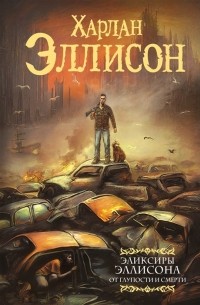Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Мой отец
Я словно пробуждаюсь от мрачного сна и внезапно понимаю, что половину жизни я провел в поисках отца.
Поймите меня правильно: я не дитя греха. Родился я в университетской больнице в Кливленде, штат Огайо, 27 марта 1934 года в 14:20. Родители мои – Луис Лаверн Эллисон и Серита Розенталь Эллисон, то есть, я знаю, кто был мой отец. У меня в руках свидетельство о рождении, я смотрю на него и вижу вопрос: законнорожденный? (Самый бесчувственный вопрос, который можно себе представить.) Но, к счастью для моей мамы и к несчастью для моих биографов, ответ прямо на этом документе, коротко и ясно: да.
Так что когда я говорю, что полжизни искал своего отца, я не имею в виду сюжет вроде того, что под стать романам Виктора Гюго.
(Хотя мне сейчас пришла в голову мысль: насколько же странно то, что осознание одного факта работает словно триггер, запускающий серию эпизодов осознаний в других областях. Ну не странно ли, что я написал целый ряд рассказов, в которых дети – по той или иной причине, часто движимые сюжетом – ищут своих отцов. Первый рассказ, который приходит на ум, назывался «Четвертая заповедь». В нем речь шла о пареньке, ищущем своего отца, которого он никогда не знал. Ищет, чтобы убить его за то, что тот попользовал, а потом бросил его мать. Я продал этот рассказ телевизионщикам после того, как он был напечатан в журнале. На ТВ его переделал один тип по имени Ларри Маркус, изменив название на «Дар воина». Он вышел на телеэкраны 18 января 1963 года, год спустя после моего переезда с Восточного побережья в Лос-Анджелес, а еще несколько лет спустя Маркус и Герберт Леонард, продюсер сериала «Шоссе 66», сняли по этому моему рассказу фильм «Возвращение домой», не заплатив мне ни гроша за вторую экранизацию. Но это уже другая история. Мой адвокат работает сейчас над этой проблемой, а мы вернемся к теме, о которой шла речь.) Отец умер в 1949 году, когда мне было пятнадцать. Я жил с ним и мамой все эти пятнадцать лет, но никогда не знал его по-настоящему. И только когда мама, три или четыре года тому назад, серьезно заболела и думала, что с ней все кончено, она решилась поделиться со мной очень серьезными фактами из жизни Луиса Лаверна.
Было много таких историй, – расскажи я о них – которые ее расстроили бы. Глупо, конечно, ведь прошло более сорока лет, но скелеты в шкафу грохочут сильнее всего для тех, кто живет воспоминаниями – а именно ими мама и живет. И день сегодняшний даже в малой доле не так важен, как день вчерашний с моим отцом. Я не буду вдаваться в детали того, как отец практиковал стоматологию в Кливленде в течение одиннадцати лет. Это история для другого времени.
Начнем с того, что отец, как и я сам, был коротышкой. Он был даже ниже меня, насколько я помню. А мой рост – официально – 163 см. Отец был невероятно мягким человеком. Однажды в детстве я выкинул какой-то совсем уж дурацкий фортель, и отцу пришлось отвести меня в подвал, где он меня наказал. Ремнем. Но поймите меня правильно: в этом моем воспоминании нет ни йоты обиды. Отец не был жесток. К телесным наказаниям он был склонен не более, чем Альберт Швейцер. Но в те времена отцам полагалось быть суровыми. «Вот погоди, придет с работы отец!» – таков был клич всех матерей Америки. Я побаивался, но лишь наполовину, потому что знал, что мой отец не способен на такое.
Но, как я уже сказал, это был тот самый случай, когда наказание было неизбежным. Может быть, это случилось тогда, когда я столкнул Джонни Мамми с крыши гаража, где мы с ним играли в Бэтмена и Робина. Тогда-то отец отвел меня в подвал дома 89 по Хармон-драйв в Пейнсвилле, штат Огайо – и отходил меня ремнем как следует.
Жгучая боль прошла через час, хотя тупая боль ощущалась еще пару недель после экзекуции.
Отцу стало плохо. Он поднялся в свою спальню и расплакался. Несколько недель кряду он был сам не свой. В то время я, конечно же, обо всем этом не знал.
Он был мягким человеком и выглядел… Ну, почти как Брайан Донлеви, если бы великий актер был коротышкой. Если вы понятия не имеете, кто такой Брайан Донлеви, можете увидеть его в «Позднем-позднем шоу».
Когда отец был мальчишкой, он работал на речных теплоходах, разнося пассажирам сладости и газеты. Позднее, гримируясь под негритенка, он стал выступать в шоу. И он пел. Очень хороший голос, даже в поздние годы. Его фото украшало обложку нотной тетради с песней «Моя еврейская мама» – песней, которая сделала Эла Джонсона знаменитым и которая была написана другом отца и посвящалась матери моего отца, бабушке, которую я не знал. Как не знал, к слову, и дедушку.
Отец всегда хотел стать дантистом, и со временем он стал практиковать стоматологию в Кливленде. В эпоху сухого закона. Мне рассказывали, что он был настолько фантастическим дантистом, что мафиози пользовались его услугами. Мама, после того как они поженились, работала у него в приемной. Она рассказывала, что, когда гангстеры приходили поставить пломбу, отец всегда настаивал, чтобы они оставляли свои пушки у мамы. Она говорила, что нередко случалось, что невозможно было открыть ящик письменного стола, потому что он был под завязку забит пистолетами.
Ладно, вы, должно быть, уже недоумеваете, почему я обо всем этом рассказываю здесь, в новой газетной колонке. Мне просто хотелось для начала поговорить о чем-то для меня важном, и я узнал обо всем этом всего несколько дней назад, когда мама приехала из Флориды навестить меня. Я нечасто с ней вижусь, и мы никогда не говорили по душам, но она затронула тему моего отца, и я начал расспрашивать ее, пытаясь узнать, каким он был на самом деле – в отличие от той лапши, которую вешают на уши детям, рассказывая об их родителях. Ни в одной из написанных мною вещей я не рассказывал об отце просто потому, что я его толком и не знал. Мы жили под одной крышей, но были чужими, словно он вибрировал в другом слое бытия. Мы проходили мимо друг друга и сквозь друг друга, словно тени.
Но когда мама рассказала о том, что отец в свое время отсидел в тюрьме, каким-то странным и вывихнутым образом я начал понимать, что ищу «Дока» Эллисона всю мою жизнь.
Из-за истории, которой я обещал не делиться с читателями, ему пришлось закрыть свою стоматологическую практику. Это были времена сухого закона, времена Великой депрессии, и отцу нужно было содержась семью: маму, мою сестру и меня. И он занялся торговлей спиртным.
История эта весьма туманна, потому что мама – мой единственный источник информации – говорила обо всем этом полунамеками. Все, что я могу сказать, так это то, что у отца были друзья в Канаде, и он на автомобиле ездил из Буффало в Торонто, где и затаривался спиртным. Потом уже с грузом он отправлялся в Цинцинатти или в Кливленд – в общем, в те края. Вскоре дела пошли очень неплохо, и он нанял одного случайного знакомого, который, как и отец, попал в черную полосу жизни. И однажды ночью, когда этот человек перевозил алкоголь, его накрыли. Отец взял всю вину на себя, и его знакомого отпустили. Как говорила мама: у этого водителя была семья, и в общем…
Отец был мягким и добрым человеком.
И он отправился в тюрягу. Срок был серьезным, но отец отсидел его не полностью. (Годы спустя я сам оказался за решеткой. И меня поразило то, насколько практично и трезво мама встретила эту новость, насколько умело она провернула историю с залогом. Теперь я ее понимаю гораздо лучше.) После тюрьмы отец отправился в Пейнсвилль, где стал работать в ювелирном магазине, который принадлежал моим дядям. Я тогда был слишком мал, чтобы понимать, что происходит.
Год сменялся годом, и мой отец решил, что ему принадлежит часть магазина «Ювелирный магазин Хьюза» на перекрестке улиц Стейт и Мэйн в Пейнсвилле. Я был слишком озабочен собственными проблемами и постоянно удирал из дома. Но в 1947 году, когда дядя Морри вернулся домой с войны, оказалось, что отцу в магазине вообще ни черта не принадлежит. Он работал управляющим магазином, помог увеличить клиентуру, завел множество друзей в городе – он стал первым евреем, принятым в масонскую ложу Пейнсвилля, – а город этот был печально известен своим антисемитизмом – но когда наступил критический момент, отец остался с голой задницей. Но это ведь были братья моей мамы, и с этим ничего нельзя было поделать. В еврейских семьях все держатся друг за друга. И отец, которому было без пары лет пятьдесят, открыл свой собственный магазин.
Он не смог заполучить первый этаж магазина на Мэйн-стрит. Тогда он снял второй этаж, где и обустроил свой бизнес. В свободное время, пользуясь личными контактами, он продавал бытовую технику. Это была изматывающая работа. Даже просто подняться по долбаной лестнице было ох как нелегко. Лестница вздымалась почти вертикально, а ему приходилось лазать по ней двадцать раз в день.
Годом позже это его и убило.
1 мая 1949 года я спустился из моей комнаты и увидел отца. Он сидел на большом кресле у камина с воскресным изданием Кливлендской газеты на коленях и с трубкой в зубах. Я остановился на лестнице, собираясь попросить у него странички юмора, и внезапно он начал хрипеть.
Все последующие дни я ходил как сомнамбула. В те времена я увлекался бейсболом и лупил битой по теннисному мячу, направляя его в стену дома. Целый месяц я только это и делал с утра и до поздней ночи. Стоял под кленовым деревом и бил по мячу, и ловил его бейсбольной перчаткой, которую мне купил отец. Я бил по мячу, и ловил его снова, и снова, и снова…
Все, кто был в доме, должно быть, с ума сходили от звука мячика, ударявшего в деревянную стену дома снова, и снова, и снова – без конца, пока не наступала ночная темнота. Вскоре мы переехали оттуда, и в школе я съехал с неизменных пятерок на сплошные трояки. Стал тем, что называется «проблемный мальчик». Но со временем все утряслось.
С тех самых пор – теперь я это хорошо понимаю – я искал своего отца. Пытался найти его в суррогатных отцах, но это всегда кончалось плохо. А я всего лишь хотел сказать ему:
– Эй, папа, ты сейчас гордился бы мной. Я стал порядочным человеком, и все, что я делаю – я делаю хорошо… И я люблю тебя, и… Почему ты ушел и оставил меня одного?
Когда я жил в Кливленде, то иногда ходил на его могилу. Но я не делаю этого вот уже более сорока лет.
Потому что на кладбище его нет.