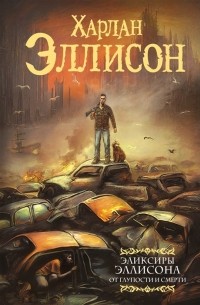Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Из Алабамы с ненавистью. Еще одна заметка из чистилища
25 марта 1965 года, четверг. Марш по стране слепых. Город Монтгомери, штат Алабама, в жару смердящий разложением, задыхающийся от злобы двух столетий расизма, убийств и морального убожества, оснащенный скрытыми от посторонних глаз реликвиями аристократов Юга: веревки для линчевания, ружья 12-го калибра, паскудные туалеты типа «сегрегированные, но равные», электрошокеры, отряды убийц ночью и расчетные чеки днем.
Да, оснащенный всем этим – и ждущий прибытия чужаков.
25 марта. Пятьдесят тысяч человек, идущих по красным глинистым дорогам Алабамы и поющих на марше. Чужаки, пришедшие объяснить сумасшедшим расистам, что Гражданская война давно закончилась, что дом, разделившийся сам в себе, не устоит, что обители зла, в которую превратилась Алабама, никто в Соединенных Штатах уже не потерпит.
Марш свободы в Монтгомери, штат Алабама.
Тенденциозные сообщения в печати.
И если ты не шел с нами в марше, то можешь пойти на ***. Возможно, тобой двигали какие-то благородные мотивы. Не знаю, я их не обнаружил. Просто наступило время расчета, время отказа от салонного либерализма, время прекратить кудахтанье об ужасающих преступлениях и не менее ужасных условиях жизни. Время действовать. Время платить по счетам. Время mea culpa, когда виноват каждый. Потому и я пошел в марше.
Вместе с тысячами других – со всей страны, со всего мира. Был представлен каждый штат: Нью-Мексико, Индиана, Нью-Йорк, Флорида, Огайо. Порядочные мужчины и женщины из Парижа и Лондона. С Гавайев и Аляски. Слепой мужчина, пришедший пешком из штата Джорджия. Богатая дама в мехах из Беверли-Хиллз. Одноногий герой, участвовавший еще в первом марше Трехсот, проделавший путь от Сельмы, где люди гибли еще несколько дней назад, до Монтгомери, где какой-то подлый расист вывесил флаг Конфедерации, как жест сопротивления, и спрятался за дверями, закрытыми на все замки.
И даже после марша, даже после всех бесконечных речей, женщину из Детройта буквально расстреляли на той же самой дороге между Сельмой и Монтгомери. Виола Лиуццо стала еще одним занумерованным трупом.
Черт подери их всех! Черт подери их вывихнутые, изуродованные мозги, их гнилые убеждения, всех этих двойников гитлеровских головорезов. Даже после того, как они видели пятьдесят тысяч человек, собравшихся в выгребной яме, называемой штатом Алабама, чтобы словом, телом и делом заявить: «Освободи этих людей!» – даже и после этого, при всех произнесенных словах, негодяи убивали снова.
И снова. Похоже на то, что это никогда не прекратится, пока не наступит время и человечество не исчезнет, погрузившись в океан забвения, когда не станет ни черных, ни белых – ни Человека вообще! Все эти разговоры о Человеке, а на марше разговоры о Боге… Но где был Бог для маленьких девочек в Бирмингеме? Где был Бог для преподобного Риба? Для миссис Лиуццо? Для всех безымянных чернокожих, которых сжигали и вешали, калечили бритвой и ножом, расстреливали из ружей? Я не могу говорить о Боге. Я могу говорить только о Человеке.
Самолеты вылетали из Бербанка. Три самолета – из аэропорта Локхид, где Богарт прощался с Ингрид Бергман в «Касабланке». Триста священнослужителей, студентов, актеров, домохозяек, клерков, писателей, водителей грузовиков, поэтов. Сначала все думали, что хватит одного самолета, но за два дня до нашего вылета пришлось подрядить еще один, а ранним утром в четверг – и третий. И все равно людям продолжали отказывать. Зал ожидания превратился в сумасшедший дом, люди толпились у стойки регистрации, крича: «Дайте мне улететь!» Почему они так яростно за это сражались? Почему было не воспользоваться удобным предлогом и не лезть в пасть зверю?
Потому что все, что я видел во время марша на Монтгомери, это Человек во всем своем благородстве – и во всей своей мерзости. Если вам нужны детали, если вам нужны строгие цифры, если вам нужна история, все это было зафиксировано и записано. А я пишу, черт бы их всех побрал, о своих личных впечатлениях. Мужчины и женщины, которые, конечно же, предпочли бы залечь дома в теплую кроватку или отправиться на дискотеку. Они сражались и толкали друг друга, чтобы выложить свои деньги за билет. Я был в самой гуще толпы. И у меня нет ответа на вопрос «почему».
Но в самолете, забитом абсолютно незнакомыми мне людьми, – несмотря на то, что нас объединяло общее дело, – меня внезапно одолели странные и пугающие мысли. Все люди на этом рейсе, летящие по направлению к всеобщему братству – что, если мы потерпим катастрофу и окажемся вдали от цивилизации, и у нас не будет никакой еды кроме той, что мы везли с собой в рюкзаках? Разве мы не набросились бы на этого хорошо одетого чернокожего джентльмена с сумкой фруктов в руках? И куда бы подевалось тогда наше братство? И до меня дошло: вся истерия у стойки регистрации, вся толкотня, все эти стадные эмоции…
Это было взаправду! Это были реальные люди.
А то, куда мы летели, то трудноопределимое, то во что мы верили и что собирались делать… Это была всего лишь идея. Просто мысль.
И она, пугающим и неизбежным образом, не была реальностью. И я знал: эти люди не обязаны нравиться друг другу, не обязаны любить друг друга, они друг другу абсолютно чужие существа, летящие к мечте.
Но мечту невозможно заселить людьми. Только суровая реальность позволяет ощутить присутствие других. Я почувствовал себя очень одиноким.
Потому что там, внизу, был Монтгомери, штат Алабама. Это была реальность.
А здесь, в самолете, была мечта. И мысль о том, что мечта эта не была частью реальности, пугала меня. Люди, живущие в этом штате, существуют в нем постоянно, а не просто прилетают на денек или недельку, а потом возвращаются назад к холмам Голливуда, к безопасной жизни. Я похолодел при мысли о том, что мы вот-вот вторгнемся в их реальность.
Внизу мы должны были встретиться с участниками Первого марша, прошедшими пятьдесят миль по шоссе 80 от Сельмы до Монтгомери.
Все демонстранты, прилетавшие отовсюду, должны были встретиться в трех милях от Монтгомери, в городке Сент-Джуд, в больнице и в школе. Мое первое впечатление наполнило меня страхом. Так, должно быть, чувствовали себя заключенные со всей Европы, впервые увидевшие Бухенвальд или Дахау. Снаружи, по внешней стороне колючей проволоки, с интервалом в пятнадцать метров стояли бойцы Национальной гвардии Алабамы.
Внутри ограждения бивуак выглядел как-то… неуместно.
Площадка была забита группами людей, по две, а то и по три сотни. Неорганизованные, растерянные. Грязь была повсюду. Жирная, чавкающая грязь Алабамы, которую месили тысячи ног еще с прошлого дня. Это был концлагерь. И солдаты за колючкой смотрели не вовне, как было бы, если бы они защищали людей внутри…
Когда мы оказались внутри, я попытался поговорить с нацгвардейцами. Точнее, задать им два вопроса. Я пересек пустое пространство, отойдя подальше от всех толпившихся внутри колючки людей и подошел к трем бойцам, стоявшим вместе. Двое сразу же отошли.
– С каким интервалом вас расставили вокруг колючки? – спросил я.
– Я не знаю.
– Вы из Национальной гвардии Алабамы?
– Я не знаю.
Он повернулся и пошел прочь. Я смотрел ему вслед. Избави нас Боже от людей, которые делают то, что очень не хотели бы делать. И делают это лишь потому, что им был отдан приказ.
Позднее я еще более отчетливо осознал мой страх перед этими южанами, согнанными сюда, чтобы служить ненависти, потому что единственный момент реальной опасности исходил от них.
Мы должны были начать марш, пройдя три мили вглубь Монтгомери к зданию Капитолия, в 9 утра. Но мы никуда не двинулись до одиннадцати. Выстраиваясь в колонны, шеренгами по трое, мы стояли и ждали в грязи, а потом начался дождь. Он холодной моросью брызгал прямо на нас. Люди доставали из рюкзаков зонты и плащи.
Внезапно заблеяли матюгальники на грузовичке. Какой-то негритянский комик неумело подражал разным деятелям… И никак не мог остановиться. Он изображал Уоллеса, Рузвельта, Ральфа Банча, Линдона Джонсона, Пауля Тиллиха… Каждые несколько минут он разражался злыми вставками на предмет того, что все «беляши» – сукины дети. Это было в очень дурном вкусе и очень не ко времени. В конце концов, все мы, собравшиеся здесь, прибыли, чтобы сделать то, что в наших силах, послужить справедливости, без обычной для белых поспешности заправлять всем. Мы стояли, а этот комик хрипел, обращаясь к нам, пока не раздались голоса, предлагающие брать штурмом не Капитолий, а этот проклятый грузовик с матюгальниками.
Потом участники Первого марша трехсот в своих флуоресцентных жилетах дорожных рабочих, с флагами США в руках начали шагать вперед, и мы, в приподнятом настроении от того, что началось хоть какое-то движение, последовали за ними. Волна за волной, шеренга за шеренгой, дети, взявшись за руки, женщины с пакетами с едой, чернокожие и белые, со сверкающими глазами, мы выходили на шоссе Джефферсона Дэвиса.
Время от времени из рядов взмывала вверх песня. Мы шли уже четыре часа. Впереди меня одноногий Джим Летерет из Сагино, штат Мичиган, скакал на своих костылях, расплывшись в улыбке.
Группа подростков из Монтгомери шагала рядом с нами, прибывшими из Лос-Анджелеса, и я впервые расслышал слова их песни:
– В сердце своем ты знаешь, что ты не прав… В сердце своем ты знаешь, что ты не прав… В сердце своем ты знаешь, что ты не прав… Здесь в Монтгомери, штат Ала-ба-ма!
Это была странная и требовательная кричалка, под которую мог бы танцевать Придурок:
– Хуп-де-хуп… Хуп-де-хуп… Хуп-де-хуп…
И потом зловещее, угрожающее и требовательное:
– Ага. Ага. Ага. Ага. Ага.
Это была старая кричалка, которую обращали к штрейкбрехерам. Грозное предупреждение.
– Мы идем. Мы ждем вас. Попробуйте сделать что-нибудь. Сломайте палки о наши спины. И потом посмотрим, кому раскроят башку, Хуп-де-хуп… Хуп-де-хуп… Хуп-де-хуп… Ага. Ага. Ага. Ага. Ага.
Марш прошел по 80-му федеральному шоссе и стал углубляться в негритянские кварталы.
Представьте себе все мыслимые клише бедности и отчаяния. Погрузите их в котел вашего воображения. Но и тогда они не достигнут планки того убожества, в котором живут темнокожие мужчины и женщины в Монтгомери, штат Алабама. Дома, никогда не видевшие краски, хижины из картонных панелей, не имеющие фундамента. Дома, где при подметании не нужно брать в руки совок для мусора, потому что мусор проваливается сквозь щели в полу.
Дома, где стены обклеены не обоями, а старыми газетами, картонные коробки, в которых гуляет холодный ветер. Полных людей очень немного. И абсолютное отсутствие расистского клише: «Они живут в грязи, но ездят на огромных кадиллаках». Кадиллаков здесь нет. Но есть высохшие старики, сидящие на крыльце в чистой, но заношенной до дыр одежде. Есть маленькие дети, бегающие друг за другом в чулках, натянутых на головы. Есть грязные открытые стоки для нечистот возле каждого дома – потому что муниципалитет не считает нужным снабдить местный люд адекватной канализацией. Есть тотально неадекватные магазины – маленькие клетушки с обязательной рекламой кока-колы, ниже которой располагается название самого магазинчика. Единственное, что выглядит ярким и свежим – реклама кока-колы. Боже, благослови американскую экономику, всепроникающую любовь корпораций! Картинка на обочине: дюжина маленьких детей, тоненькими голосами поющими вместе с тысячелетним негром «We Shall Overcome». На их лицах ни единой улыбки.
Улыбки были на лицах тех, кто шагал в колонне на марше. Негры, сидевшие у домиков вдоль дороги, были слишком напуганы: что, если их хибарки сожгут, или их самих линчуют, или выгонят с работы, если они примут участие в марше (что и подтвердили события последующих нескольких дней) – и потому они молча наблюдали за нами. Сидя на крыльце и стоя на тротуарах, – эвфемизм для дорожек, присыпанных щебенкой – они смотрели на текущую вдоль дороги человеческую реку – на тех, кто приехал в Алабаму, чтобы поклясться в верности их делу. И, когда поющие люди шагали мимо их хижин, их обитатели спонтанно начинали аплодировать в такт песне и подпевать, но неизменный страх тут же возникал за их спинами, и они умолкали. Это было жутковато и трагично.
Старая беззубая женщина, преодолев себя, бежала вдоль колонны, радостно выкрикивая слова песни. Она вцепилась в меня, пыталась меня обнять просто потому, что пришла в восторг от того, что мы существуем, что мы приехали туда, куда приехали.
– Давай, мама! У нас найдется для тебя место, – кричал Пол Роббинс, фотограф, прилетевший со мной.
Все смеялись и танцевали, а она хлопала в сухонькие ладошки, сияя как ребенок. Мы шли дальше, а старуха уже улыбалась тем, кто шел за нами – и они невольно улыбались в ответ.
Девочка из средней школы Монтгомери шагала рядом со мной. Она указала рукой на здание с вывеской «Лайкос Клаб».
– Сюда мы ходим на уроки музыки, – сказала она. Простая фраза, но в ней пульсировала ярость.
Это было единственное место, куда им разрешалось ходить. Мы повернули вправо, шагая по красной глине, и внезапно у нас под ногами появился асфальт.
Начались кварталы белых низов среднего класса. Ощутимый переход от Ниггер-тауна к поселениям Белой Рвани.
С точки зрения цивилизации это было всего в полушаге от позорного гетто, которое мы только что прошли, но именно здесь мы столкнулись с самым озлобленным отношением…
(Когда я служил в армии и мы базировались в Джорджии, я беседовал с тупейшим представителем белой бедноты, рядовым первого класса. Вот что он мне поведал:
– Я бедняк, – говорил он с горечью. – Настоящий бедняк. Беднее не бывает. Образования у меня нет, и дома меня не ждет ничего. Останется разве что трахаться и стареть. Я полный нуль, чувак, полный нуль. Как грязь у нас под ногами. Но есть кое-что, по сравнению с чем я человек. Я лучше, чем ниггер. И сделаю все, чтобы так оно и было впредь.
Популярное изложение того, чем права южных штатов отличаются от гражданских прав.) На крыльце сидела белая пара, мужчина и его жена. Они пили чай и даже не видели, что по их улице идет марш свободы. Их мир был выше этого.
И на этом участке дороги ничего не происходило.
Ничего не происходило в Алабаме, как убеждало телевидение в воскресенье. Вообще ничего. О чем они думают, шагая по этой дороге? Чего ищут? Саранчу? Идут мимо негритянских школ. И темнокожие дети высовываются из окон, торжествующе вопят, призывая нас идти вперед, учителя машут нам руками, плачут от счастья. «Покажите этим негодяям!» И название школы крупными буквами: ШКОЛА ЛАВЛЕСС. Да.
Снова поворот. На склоне холма веранда жилого отеля. На ней толпа белых дамочек среднего класса, сливки женского пола американского юга.
– Угодники ниггеров! – заорала старая блондинка.
– Идите на… – слова второй утонули в песне, которую пели темнокожие участники марша:
– Скажите Джорджу Уоллесу, скажите Джорджу Уоллесу, скажите Джорджу Уоллесу, что нас не повернуть назад!
Третью дамочку так трясло от ярости, что она не могла прокричать, что желает нам сдохнуть, чтобы всю федеральную трассу усыпали наши трупы – и все, что она смогла сделать, это повернуться к нам спиной, оттопырить зад и сделать вид, что она пускает ветры.
– Высокий класс, мадам! – прокричал я. – К-Л-А-З!
И мы шли дальше. Напуганные? Нет, еще нет.
Хотелось пить. Солнце было высоко в небе, и нас начало припекать.
– Боже, мне бы стакан воды, – пробормотал я.
– Почему бы тебе не подойти к тому крыльцу и не попросить водички у белых? – с насмешкой проговорил черный паренек, студент из городка Таскиги.
Я улыбнулся в ответ.
– А что, это создаст проблемы для марша?
Он мотнул головой.
– Нет, это создаст проблемы для тебя.
Я вышел из строя. А вдоль рядов уже прокатывалась весть: белый парень собирается попросить воды… И никто никогда ему этой воды не даст.
Позади меня колонна замедлила шаг и остановилась. Все столпились, наблюдая за мной и ожидая неприятностей, даже с нетерпением предчувствуя, что эти неприятности начнутся. Ниже по улице стоял жилой отель. Группа женщин, облокотившись на перила, наблюдала за происходящим. Я прошагал к ступенькам. На террасе в плетеных креслах сидели три женщины.
– Простите, мэм, – обратился я к той, что потолще, – не могли бы вы дать мне стакан воды?
Она пялилась на меня, ничего не понимая. О чем ее, черт дери, просит этот северянин, еврей, коммунист? Она же ничего ему не сказала?
– Стакан водички, мэм, – повторил я.
Рыжая дамочка, сидевшая рядом с толстухой, наклонилась к ее уху.
– Он говорит, что хочет воды. Он говорит: пожалуйста.
Толстуха поднялась и вошла в дом. Рыжая обратилась ко мне.
– Не такие уж мы плохие, как вам о нас понарассказывали, – она произнесла это с неподдельной грустью.
– Не такие, как кто? – спросил я, прикидываясь остроумным пареньком.
– Ну, как, знаете, как другие, как те, что вам рассказывали.
– Кто мне рассказывал, мэм?
– Вы знаете. Не такие уж мы плохие, честно.
– Да, мэм. – Я улыбнулся ей. – Но некоторые из вас все-таки не слишком хорошие люди. И если вы сидите, ничего не предпринимая, и позволяете им уродовать ваш родной штат, вы так же виновны, как и они. Я прилетел из Голливуда, чтобы посмотреть, чем я смогу помочь.
Она уставилась на меня. Я произнес волшебное слово: Голливуд. Стало быть, я не коммунист. Еврей, поклонник негров – наверное, но не коммунист. И при моих вежливых манерах я, скорее всего, и не битник.
Толстуха вернулась с водой. Я долго пил из стеклянного стакана и вернул стакан его хозяйке.
– Большое, большое спасибо, мэм. – Я расплылся в улыбке, зная, что сейчас на моей левой щеке появляется милая ямочка.
– И расскажите им, что мы дали вам стакан воды, – сказала рыжая, улыбнувшись и считая разговор оконченным.
А если бы я был чернокожим? Я не произнес это вслух, потому что хотел показать им, что можно общаться иначе, и не хотел настраивать их против себя. Я вернулся в строй, люди снова зашагали вперед, а я повторял то, что мне сказали: не такие уж они плохие в этих краях. Студент-негр бросил на меня испепеляющий взгляд.
– Смотри, не купись на все эти «оки-доки», – предупредил он меня.
Хуп-де-хуп. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага.
Мы свернули на главную артерию, Декстер-стрит. Прошли мимо отеля «Джефф Дэвис». Белые деревенщины стояли на каждом углу в джинсе и белых рубашках, салютуя нам средним пальцем. Один из них проворчал, обращаясь ко мне:
– Где ты хочешь добиться своей свободы, бой? В Нью-Йорке? Филадельфии? Чикаго?
Я улыбнулся в ответ. Пошел ты нахрен, Джек.
Идем мимо кинотеатра «Парамаунт». Афиша: Элвис Пресли в фильме «Счастлив с девушкой».
– Этот не из наших, – сказала чернокожая школьница. У меня едва не остановилось сердце. Так легко забыть, где ты и почему.
Шагаем мимо Джей Джей Ньюберри. На втором этаже – офисы городской управы Монтгомери. У них в окне гигантский плакат: Мартин Лютер Кинг в окружении группы людей, и подпись: МАРТИН ЛЮТЕР КИНГ КОММУНИСТ! Хуп-де-хуп. Хуп-де-хуп.
Белая официантка в ресторанчике смотрит на меня через оконное стекло. Я улыбаюсь ей и подмигиваю. Она одаряет меня улыбкой. Мы флиртуем.
Если бы я захотел остаться здесь на пару дней, я нес бы им Благую Весть, оплодотворил бы местных женщин, разворошил бы весь этот бардак.
Окно на втором этаже, агентство фирмы «Понтиак». Мужчина в сером костюме.
– Катитесь туда, откуда пришли, ссучьи вы дети, любовнички черномазых!
О, это южное гостеприимство.
Подростки в конце колонны запели марш свободы на мелодию, будто написанную для фильма «Придурок». Они танцуют на Декстер-стрит. И еще один танец. И сразу же третий. Бдыщ! Да! Последний всплеск. Мы дошли до подножия холма, дальше дорога вела к площади и зданию Капитолия. Кто-то указал рукой на здание и что-то прокричал. Купол Капитолия. Американского флага нет. Развевается флаг штата Алабама с красным диагональным крестом на белом фоне. А под этим крестом – звезды и полосы флага конфедератов. Губер Джордж, Губер Джордж, насколько ты в себе уверен? С патронами от ружей, с воплями линчующей толпы, с плевками на остальную Америку – всё до кучи! Мы слушали речи, все до единой. Они зудели часами и, как говорят в шоу-бизнесе, «потеряли внимание публики». Но это было не важно, мы поддерживали их до конца. Они даже могли бы читать вслух «Бармаглота» Льюиса Кэрролла. И так оно было до тех пор, пока Джимми Болдуин не представил Кинга. Когда-то Болдуин был проповедником. Ибо сказано было: Седрах и бывшие с ним отроки снова вошли в жерло печи, и из пламени ее вышел Мартин Лютер Кинг, который сказал все, что должно было сказать.
И мы там стояли, и сидели, и лежали – тысяча за тысячей, пока армейские снайперы на крышах зданий пялились на нас. Они установили пулемет на здании Национальной Безопасности в Монтгомери. Еще один – на крыше офисного здания напротив него, и два пулемета на сошках прямо в здании Капитолия. Они целились в нас и поводили стволами, о, как мы польем свинцом этих поклонничков черномазых, всю эту сволочь, о, как мы утопим их в крови! И главный головорез Уоллеса, Эл Линго, шнырял по толпе – инкогнито. Мы были как жертвенные голуби, пожелай Уоллес организовать еще одну «бойню в Шарпевиле». Добавим еще и то, что «защитники» из Национальной Гвардии Алабамы (с нашивкой флага Конфедерации на груди выше нашивки с флагом США) смотрели в толпу. А вовсе не вне ее.
Защита? Отметим: я уверен, что это была расчетливая стратегия, мобилизовать нацгвардейцев из южан. Может, это было подсознательной жаждой наказания: охранять тех самых людей, которые угрожали их образу жизни. А может статься, это было предупреждением чужакам, потому что под формой даже полиции штата были все те же ребята Уоллеса.
И еще добавим: красные глаза на вызверившихся физиономиях, толстенные шеи, челюсти, сжимающиеся от ярости, когда Кинг разносил вдребезги их алабамский расизм.
И песни… О Боже, какие песни! Пятьдесят тысяч голосов, направляемых Гарри Белафонте. Уоллес прятался в Капитолии, рассматривая нас через створки жалюзи. Интересно, Губер Джордж наслаждался этим так же, как и криками чернокожих в лунную ночь? Я услышал голоса старого негра и его жены. Они стояли за моей спиной, у баррикады из рогаток.
– Здесь уже никогда не будет так, как прежде, – уверенно говорил он. Его жена мотнула головой.
– Думаешь, они сложат лапки и помрут?
Горький голос реализма на фоне мечты.
Он пожал плечами и негромко повторил:
– И все равно, уже не будет как прежде.
Я достал из рюкзака салями и бутылку. Потом, вспомнив, что моя бутылка пуста, я одолжил воды у Гольдстоуна, режиссера ТВ, который решил, что и для него настало время заплатить долг обществу. Мы нарезали салями и передали колбасу по кругу. Один из чернокожих подростков заулыбался:
– Кошерная?
– Была кошерная, когда мы вылетали из Лос-Анджелеса, – ухмыльнулся Гольдстоун. Мы перекусили и передали по кругу бутылку воды. Но негры не станут пить из одного сосуда с белыми. Старые страхи умирают не сразу.
Покончив с трапезой, мы отправились к пустому паркингу, где нас должны были ждать автобусы. На них мы должны были вернуться в аэропорт Монтгомери и уже оттуда вылетать домой. Я хотел было остаться на несколько дней, чтобы посмотреть, чем все это закончится, но нас всех едва ли не умоляли отправиться по домам.
Возможно, они располагали информацией о том, что нас может ждать судьба Виолы Лиуццо.
Мы ждали на пустом паркинге долго, очень долго, все мы, три сотни с лишком человек. Автобусы не появлялись. За нами стеной стояли нацгвардейцы с оружием наготове – угрожающее зрелище.
– Я хочу колы, – сказал я, обращаясь к Полу Роббинсу. В двух кварталах от нас была автозаправка с небольшим магазинчиком.
– Бога ради, не ходите туда! – крикнул кто-то из толпы. Однако страха в голосе не было. И мы отправились в сторону заправки.
Когда мы шли мимо нацгвардейцев, они принялись клацать затворами своих старых карабинов. Тупые ублюдки, они что, пытаются нас запугать? Я-то знал, что в их М-1 не было патронов. На их форме даже не было запасных рожков. Ублюдки тупые. Они ворчали нам вслед всякую гнусь типа «обожатели ниггеров» и «Катись туда, откуда приехал, ты, сукин сын, пидар!» Один внезапно вышел нам наперерез с винтовкой в положении «на грудь» и требовательным голосом спросил, глядя на меня:
– Откуда ты, сынок?
Я ответил ему ледяным взглядом.
– Я из Нью-Йорка, сынок. Я, кстати, полковник запаса армии Соединенных Штатов, и если ты не хочешь, чтобы я позвонил твоим командирам и попросил их взгреть тебя как следует, то на раз-два ты вернешься в строй, марш, марш, сопляк!
Повернувшись кругом, он пробормотал под нос:
– Ты свое еще словишь.
Мы повернули за угол. Мне приспичило в туалет, но кабинки для белых были заняты: и мужские, и женские. И я прошел в туалет для «цветных». Ну а что? Я белый, а белый – это цвет. У владельца заправки был тромбофлебит. Мы купили свою колу и отправились назад. Вояки уже перекрыли улицу. Пришлось идти в обход. Три квартала на север, три квартала на запад, три квартала на юг. Теперь мне и впрямь стало страшно.
Нас было пятеро. Мы шли к нашей площадке кружным путем. Перекрывать улицы не было никакого смысла. Мои спутники начали двигаться бегом. Да черт меня дери, если я позволю этим засранцам-расистам гонять меня как кролика. Я вразвалочку подошел к нашей группе.
– С какой стати спешка? – спросил я у негра, одного из наших.
– С той, что я не могу провести ночь в отеле «Джеф Дейвис», – ответил он. Серьезный аргумент. Я тоже побежал рысью.
Автомобили и грузовички ехали вдоль дороги. Из их открытых окошек неслись угрозы:
– Когда стемнеет, мы до вас доберемся, сучьи вы дети!
Изрядно напуганные, мы наконец добрались до паркинга.
Автобусов так и не было. А чуть позже стали уходить нацгвардейцы. Правительство обещало нам: «Защита будет обеспечена до тех пор, пока все не улетят из Монтгомери». Ну да. А тем временем мы торчали здесь, и опускались сумерки, и озверевшая толпа уже была рядом с нами. И машины с краснорожей гопотой кружили, кружили и кружили вокруг паркинга…
(Случайность? Совпадение? Паранойя? Кое о чем мы тогда не знали: водители автобусов бросили работу. Везти нас они отказались.) Один автобус притормозил на обочине, рядом с бредущим по улице молодым пресвитерианским пастором. Дверь автобуса открылась, и очередной герой Алабамы высунулся наружу:
– Сегодня ночью мы из вас все дерьмо выбьем, вы, бляди, пидары, ублюдки вы сраные, ну погодите, еще нюхнете лиха! – и автобус, удирая, рванул с места.
И необъяснимо, но факт: нацгвардию уже убрали.
(Случайность? Совпадение? Паранойя? Может быть.) Наконец они все-таки выделили три автобуса. Водителям обещали сверхурочные. Автобусы прибыли. Я рванул к первому. Героизм быстро сдувается, особенно когда в воздухе пахнет кипящей смолой.
Набившись, как сардины в банке, мы ехали в аэропорт. И тут маленький белый с черными пятнами песик бросился на дорогу. Водитель мог избежать наезда, и нас бы даже не тряхнуло, но он продолжал ехать прямо. Несчастный песик попал под левое переднее колесо. Собачонку швырнуло назад, и она пробарабанила тельцем «бум-бум-бум» до самого заднего моста. Водитель и глазом не повел. Он просто посмотрел на часы, отмечая время столкновения, чтобы потом внести его в путевой лист. Было 18:06.
Приключений было больше, гораздо больше. Нам не подали трап к самолету. Его мы ждали часами.
На борту самолета нашли бомбу. А впереди ведь еще и девятичасовой полет домой! Виола Лиуццо. Ее убили, когда она торопилась в Монтгомери, чтобы забрать людей, застрявших на паркинге.
Опасность была гораздо ближе, чем мне хотелось в том признаться.
Но теперь все кончилось. Я провел там один день, хватит. Не велико достижение, не велик подвиг, ни тебе орденов, ни ленточек. Один день там, где молодой негр, студент колледжа, подвел итог: «Мы живем в состоянии постоянной настороженности. Даже в лучший из дней, в самый обычный день, уходя из дома утром, ты не знаешь, что произойдет, любая мелочь, какой-нибудь расист, накачавшийся виски, неверный шаг, и ты уже никогда не попадешь домой». А я направлялся домой и мог лишь твердить про себя: «О Боже, Боже правый, позволь мне выбраться поскорей из этой выгребной ямы!» Но здесь оно и ныне по-прежнему. Виола Лиуццо была белой, и ее имя попало в газетные заголовки. Но красная грязь Алабамы скрывает трупы сотен безымянных чернокожих, которые в заголовки уже никогда не попадут. От них не останется даже имен на могильных камнях.
Время платить по счетам? Да, друзья мои, именно это. Настало время Mea Culpa в стране слепых, в нашей стране, и мы были столь слепы долго, так невозможно долго, что, наверное, для нас уже слишком поздно узреть свет.
Уже недостаточно всплескивать ручками: «Ох, эти бедные темнокожие…» Уже недостаточно пробурчать: «Ну что скажешь, людей убивают в метро и в Чикаго, и в Нью-Йорке». Уже недостаточно пожертвовать пару долларов SNCC или CORE. Уже недостаточно, вынырнув на мгновение из уютных сверху донизу либеральных салонов, пройти маршем по пропитанной кровью земле Алабамы. Уже недостаточно.
Цунами истории вздымается выше и выше. И его уже не удастся сдержать ни убийцам в балахонах ККК, слишком трусливым, чтобы показаться на люди днем. Волна накатывает, хвала Господу, и если ты слушаешь, то услышишь, как она бьет о скалу и сносит стены расизма и ненависти.
Услышал? Прислушайся. Слышишь? Хуп-де-хуп. Хуп-де-хуп. Ага. Ага. Ага.