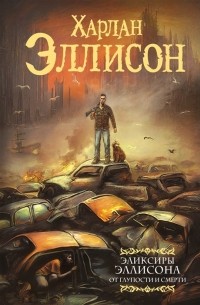Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
8
Газеты дружно подхватили эту историю. Они писали, что Валери Лоун вела себя великолепно, прорвавшись сквозь шквал злобы Аделы Седдон как несомненный, безусловный триумфатор.
Арми Арчерд назвал Седдон «сорокопутом» и предложил ей поискать в словаре разницу между «аргументом» и «скандалом», не говоря уже о разнице между «запугиванием» и «интервью». Валери стала народной героиней. Она вошла в логово дракона и вышла из него, волоча это чудовище за фаллопиевы трубы. Круз и Хэнди ликовали. На них вышел адвокат Хаскелла Баркина, стройный симпатичный мужчина по фамилии Тэбэк, и, казалось ему самому неловко представлять интересы Баркина. Когда Хэнди, Круз и вся армия адвокатов студии объяснили, что произошло, и Тэбэк поговорил с Хэнди наедине, адвокат вернулся к Баркину и посоветовал ему воспользоваться медицинской страховкой, подготовить его нынешнюю любовницу к тому, что ей придется раскошелиться на восстановление изуродованной физиономии, а также снять обвинения, потому что никто не поверит, что бездельник с габаритами Хаскелла Баркина мог быть избит таким мозгляком, как Хэнди.
Но это была лишь часть праздника Круза и Хэнди. Валери стала всюду появляться в компании Эмери Ромито. Глянцевые журналы ликовали. Для поколения, привыкшего плевать на старших, пренебрежительно относиться к возрастным особенностям, в воссоединении старых любовников было непривычное и сентиментальное очарование. Куда бы ни шли Валери и Эмери, их встречали приветливыми улыбками. Всюду были слышны разговоры о том, что после стольких лет грусти и печали влюбленные, наконец, смогли воссоединиться навек.
Эмери Ромито впервые за много лет ощутил себя живым – после того, как скандал с уклонением от призыва разрушил его карьеру. Теперь все было забыто; он словно наполнился новым достоинством, оказавшись в центре внимания прессы. Все это, вкупе с новым пониманием того, чем для него всегда была Валери, сделало его фигурой большего масштаба, чем просто стареющий характерный актер. Прежний страх еще не ушел окончательно, но на сегодня о нем можно было забыть.
Валери начала репетиции с партнерами, и ее уверенность в себе росла день ото дня. ТВ-шоу Аделы Седдон наполнило ее новыми страхами, но результаты скандала – а о ее победе трубила вся пресса – от этих страхов ее избавили. Они, конечно же, оказывали на нее влияние, но для окружающих это было не заметно.
Вечером второго дня репетиций Эмери приехал за Валери в студию в автомобиле, который студия арендовала для него. Он повез ее на ужин в небольшой французский ресторан неподалеку от рынка «Голливуд Ранчо», и, после финальной рюмочки ликера, они поехали на Сансет Бульвар, повернули налево и направились к Беверли Хиллз.
Это было вечером в пятницу.
На улицы выползали хиппи.
Подростки, торчащие на клевом музоне. Детишки-цветы. Новые люди. Длинные волосы, узкие сапоги, цветастые рубахи, мини-юбки, раскрепощенная сексуальность, шерстяные жилеты, рубашки с отрезанными рукавами – шумные и насмешливые ребята. Разрыв между их временем, когда они были звездами, и поклонники рвались через кордоны полиции, чтобы заполучить автограф, и временем, которое называлось сегодня, странное, почти призрачное время сюрреалистической молодежи, говорившей на другом языке, двигавшейся словно живой огонь и смеявшейся над тем, что могло вызывать лишь боль. Они остановились на светофоре возле Лаурел Каньона, где их сразу же окружили хиппи, навязывавшие газету нового андеграунда – «Свободная пресса Лос-Анджелеса».
Расхристанный, дикий, варварский вид этой молодежи шокировал нашу пару. И, хотя разносчики газет говорили вежливо, хотя они просто прижимались к машине и совали свои газеты в окна, само их присутствие вызвало панику у двух пожилых людей; Ромито, запаниковав, вдавил педаль газа до отказа, и машина рванула вдоль бульвара Сансет, оставив газетчика-хиппи с его разлетающимися номерами «Свободной прессы».
Ромито поднял стекло и настоял, чтобы Валери сделала то же самое.
Для них было что-то безобразно кафкианское во всех этих дискотеках, психоделических книжных лавках, ресторанчиках под открытым небом, где дети стробоскопического века приходили в себя после накачки амфетаминами или травкой.
Ромито гнал на полной скорости. Всю дорогу по Сансет к Прибрежному шоссе и к пляжам Малибу.
Наконец Валери мягко проговорила:
– Эмери, ты помнишь «Пляжный домик»? Мы всегда ездили туда ужинать. Помнишь? Давай заедем туда. Выпьем по маленькой.
Ромито улыбнулся, прищурившись. Хорошее настроение возвращалось к нему.
– Помню ли я? Я помню тот вечер, когда Дик Бартелмесс танцевал танго на стойке бара с этой пловчихой, олимпийской чемпионкой… Ну да ты ее знаешь…
Но она ее не знала. Это воспоминание кануло в небытие. Были другие воспоминания – о том, как она подторговывала гашишем. Но вот девушку ту она не помнила. Зато помнила старую придорожную закусочную, которая была популярна во время съемок какого-то фильма в те давние годы.
Но когда они доехали до места, то обнаружили, что старой закусочной, как и полагалось, уже нет, а на ее месте стоял торговый центр, а там, где Дик Бартельмесс отплясывал танго на стойке бара с олимпийской чемпионкой, расположился круглосуточный магазин со спиртным с огромной неоновой вывеской.
Эмери Ромито проехал несколько миль по Прибрежному шоссе, миновав алкомаркет по инерции, не раздумывая. Потом съехал на обочину, встав параллельно океану, и там, на гребне, который спускался в темноту, к линии прибоя, он остановился. Он сидели молча. Двигатель машины отключился, их мысли тоже, в ловушке одиночества, пейзажа и их прошлого.
И потом, внезапно, к Валери Лоун вернулась память. Волна мыслей, которые надо было переворошить сейчас, двадцать лет спустя. Причины, ситуации, обстоятельства.
– Эмери, почему мы не поженились?
И она тут же ответила на собственный вопрос улыбкой, которую он не мог видеть в темноте. Возможно, он ее не слышал – во всяком случае, он не ответил. А в ее сознании роились ответы. Все, как один, мертвые.
Это были сны, которые для каждого из них заменяли реальность; упорство, с которым они пытались уцепиться за дым и туман грез; упрямый отказ признать, что туман и дым неизбежно превратятся в пепел. И когда каждого из них целиком поглотила карьера, которая, как они думали, освободит их, они стали чужими. Они боялись связывать свои жизни друг с другом, с кем угодно, с чем угодно, только не с миром, который выкрикивал их имена сто раз в секунду и аплодировал без остановки.
И тогда Эмери заговорил. Словно его мысли шли встречным курсом течению ее собственных дум, и ее думы мчались навстречу его мыслям.
– Понимаешь, Вал, ты всегда зарабатывала больше, чем я. Твое имя всегда было набрано на афишах самым крупным шрифтом, а мое стояло в колонке «Также снимались». У нас ничего бы не получилось.
Она кивнула, соглашаясь. Но в следующее мгновение шок от того, что она приняла без возражений, шок от безумия происходящего потряс ее. Двадцать лет назад, в мире фантазии, да. Это могло быть реальной причиной в том безумном смысле, в каком извращенная логика кажется вполне рациональной в ночных кошмарах, но она провела почти два десятилетия в другой жизни, и сейчас она понимала, что и эти годы были ложью, как некогда жизнь, вознесшая ее на экран.
Но на мгновение, на долгое мгновение она снова приняла все это: и город, и киноиндустрию, и то, как жизнь шоу-бизнеса засасывает человека. Для тех, кто работал в ней, это быстро становилось данностью, все они попадали под чары своей собственной странной и блестящей жизни; потребовалось более двадцати лет, чтобы снова проникнуть в эту культуру, сжиться с ней.
Но теперь можно было не вырываться из этого густого тумана иллюзий. Потому что он висел, как лос-анджелесский смог, над всей страной, а может, и над всем миром. Но не над Валери Лоун.
– Эмери, послушай меня… – Он шептал что-то, что звучало как шелест крыльев мотылька в тумане. Он говорил об именах в титрах, о деньгах и днях, которые никогда не были живыми и теперь должны были быть полностью и окончательно преданы смерти.
– Эмери, дорогой! Пожалуйста, выслушай меня!
Он повернулся к ней. И тогда она увидела его. Пусть даже смутно, только при лунном свете, но она увидела его таким, каким он был на самом деле, а не таким, каким ей хотелось его видеть, стоящим в дверях бунгало в отеле «Беверли-Хиллз» в ту первую ночь ее новой жизни с ним. Она видела, что случилось с человеком, который когда-то был достаточно силен для того, чтобы отрицать войну и говорить, что он скорее потеряет все, чем будет воевать против ближнего своего. Эмери Ромито стал добровольным узником своей собственной жизни в шоу-бизнесе. Он так и не смог от нее убежать.
Она знала, что должна ему все объяснить, разучить его, а потом научить заново. Бесконечная печаль наполняла ее, когда она обдумывала свои аргументы, свои объяснения того, на что похож другой мир… мир, который он всегда считал скучным, пустым и заброшенным.
– Дорогой мой… Я прожила в пустыне, в пустом мире без малого двадцать лет. Поверь мне, когда я говорю, что все это – пустота: имя в титрах, деньги, жизнь на съемочной площадке – все это притворство и ложь! Мы всегда говорили об этом, но позволили лжи и пустоте высосать из нас все соки. Надо понять, что за границами студий лежит целый мир, где ничего этого нет, где все это не имеет значения. Что, если шоу не продолжается? Что тогда? Зачем отчаиваться? Мы можем заняться чем-то другим, если мы и впрямь нужны друг другу. Понимаешь, о чем я? Неважно, помещено ли твое фото в голливудский каталог актеров, важно, что ты вечером приходишь домой, открываешь дверь ключом и знаешь, что за дверью тебя ждет кто-то, кому ты важен и небезразличен, кого беспокоит, не попал ли ты в аварию на шоссе. Эмери, говори со мной!
Тишина. Она потянулась к нему. Тишина. И потом:
– Вал, может, потанцуем?.. Как прежде?
Тьма снова надвинулась, грозя поглотить Валери. Она оскалила зубы и тыкала в нее, костлявым пальцем, выискивая самые уязвимые места – места, еще наполненные соком жизни, которые она обгладывала до костей, а потом высасывала костный мозг, пока Валери не впадала в полное отчаяние.
Но она сопротивлялась.
Она говорила с ним.
Она говорила низким, грудным голосом, который нарабатывала еще в звездные годы. Сейчас она включила его на полную мощность, чтобы отвоевать самую важную роль в своей карьере.
– У нас есть возможность победить вместе. – Бог дал нам еще один шанс. – Мы можем обрести то, что потеряли двадцать лет назад. – Слушай, Эмери, слушай же…
Эмери Ромито падал в пропасть минувших лет – в бесконечный тоннель отчаяния. Ее голос доходил до него из этого тоннеля, и он цеплялся за этот голос, цеплялся и вновь обретал его. Эмери позволил мелодии ее голоса удерживать его над пропастью – и медленно вытаскивать его назад.
Он произнес жалобно:
– Правда? Ты думаешь, мы сможем? Правда?
Кто может быть более убедителен, чем женщина, сражающаяся за свою жизнь? «Правда?» Она показала ему: «Да, это правда». Она говорила с ним, очаровывала его, возвращая ему силы, покинувшие его десятилетия назад. С ее карьерой на новом подъеме они могли бы вернуть себе все хорошее, что потеряли на пути сюда, на пути к этому вечеру.
И наконец, он наклонился, этот старик, и поцеловал ее, эту усталую женщину. Застенчивый поцелуй, почти невинный, как будто его губы никогда не касались губ бесконечных старлеток, хористок, секретарш и женщин, гораздо менее важных для него, чем эта женщина рядом с ним в арендованной машине на темной дороге у океана.
Он был напуган, она чувствовала это. Почти так же напуган, как и она сама. Но он был готов попробовать, чтобы понять: смогут ли они извлечь что-то реальное из той кучи мусора, в которую они когда-то превратили свою любовь.
Потом он завел машину, сдал задом, развернулся и поехал в сторону Голливуда.
Тьма все еще клубилась рядом с Валери, голодная, жаждущая, но она готова была подождать. Не меньше пугали Валери длинноволосые дети, и острые на язык интервьюеры, и безжалостные огни павильонов, но, по крайней мере, теперь появилась цель; теперь было к чему двигаться.
Подул мягкий бриз, и они открыли окна в машине.