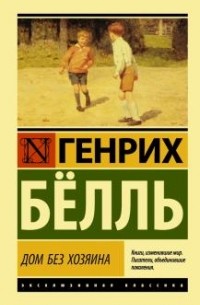Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
5
Мартин остановился, расстегнул воротник и стал вытаскивать из-за пазухи висевший на шнурке ключ от квартиры. Утром ключ был холодный, болтался где-то около пупка и чуть царапал, потом он нагрелся, и, когда стал совсем теплым, Мартин перестал его чувствовать. В полумраке он сразу разглядел белую бумажку, приколотую к двери, но не торопился зажигать свет, чтобы узнать, что в ней написано. Он нагнулся и так раскачал ключ, что тот пролетел мимо левого уха, вокруг головы и шлепнулся на правую щеку. Мартин подержал его немножко в таком положении, потом сильным толчком снова послал вперед. Левой рукой он нащупал кнопку автоматического выключателя, правой – нашел замочную скважину и, приложив к ней ухо, стал напряженно прислушиваться: он хотел убедиться, что в квартире никого нет. В записке наверняка сказано, что Альберту тоже понадобилось уехать. Когда он думал: «Никого нет», он не считал бабушку, которая вне всякого сомнения сидит дома. Думать: «Дома никого нет», – значит, думать: «Бабушка дома, а больше – никого». «Больше» было здесь решающим словом, это слово ненавидел учитель, он ненавидел и слова собственно, вообще и все одно – слова куда более значительные, чем это кажется взрослым. Он даже услышал бабушку. Что-то бормоча, она расхаживала по своей комнате, и от ее тяжелых шагов дребезжала стеклянная горка. Услышав бабушку, он тотчас же ясно представил ее себе; ее и огромную черную старомодную горку мореного дуба; горка была очень старая, или, другими словами, очень ценная. Все, что было старым, считалось также ценным. Старые церкви, старые вазы. Настил под паркетом рассохся, и горка, не переставая, дрожала, когда бабушка ходила по комнате, а посуда в горке без умолку легонько звенела. Бабушка ни в коем случае не должна слышать, когда он приходит домой. Не то она позовет его к себе, начнет кормить всякой всячиной – кусками непрожаренного мяса, которое он терпеть не может, будет задавать вопросы из катехизиса и старые, неизменные вопросы о Гезелере. Он нажал кнопку выключателя и прочел записку, оставленную дядей Альбертом: «Мне все-таки пришлось уйти». «Все-таки» было три раза подчеркнуто. «Вернусь в семь. Подожди меня с обедом». То, что Альберт трижды подчеркнул «все-таки», лишний раз доказывало значимость этих слов, которые ненавидел учитель и употребление которых запрещал. Он обрадовался, когда свет снова погас, – был риск, что бабушка выскочит на свет, потащит его к себе, начнет экзаменовать и пичкать непрожаренным мясом; сластями; потом пойдут нежности, игра в катехизис и вопросы о Гезелере. А не то она просто выскочит на лестницу и завопит: «У меня снова кровь в моче!», будет размахивать стеклянным ночным горшком и обливаться горючими слезами. Его мутило от бабушкиной мочи, он побаивался бабушки и потому обрадовался, когда выключатель щелкнул и свет снова погас.
На улице уже зажгли фонари. Желтовато-зеленый свет за спиной Мартина пробивался через толстые стекла парадного, падал на стену и отбрасывал его тень – узкую серую тень на темную дверь. Он все еще не отнял руки от выключателя, нечаянно нажал на кнопку, и тут случилось то, чего он всегда ожидал с таким напряжением: его тень выпрыгнула из мрака, как темный, очень ловкий зверь, черный и страшный; она перепрыгнула через перила, и тень от головы упала на филенку двери, ведущей в подвал; потом он снова раскачал ключ и проследил за движением узкой серой тени от шнура, но тут в автомате тихо тикнуло, свет снова погас; он еще два, даже три раза – ведь это было так красиво! – заставил ловкого черного быстрого зверя – свою тень – выпрыгнуть из зеленоватого света за спиной, так чтобы темное пятно от головы снова падало на прежнее место и снова забегала по полу расплывчатая, серая тень от шнурка, повязанного на шее. Вдруг он услышал наверху шаркающие шаги Больды: она прошмыгнула через переднюю, в ванной зашумела вода, и тут он сообразил, что в это время Больда всегда спускается на кухню и варит себе бульон.
Теперь самое важное войти в дом тихо, чтобы бабушка не услыхала. Он вставил ключ в скважину, осторожно повернул его обеими руками, потом толкнул дверь, сделал большой шаг, чтобы переступить скрипучую половицу, и наконец очутился на толстой ржаво-красной дорожке. Не сходя с места, он весь подался вперед и тихо, чтобы не щелкнул замок, закрыл дверь.
Он затаил дыхание и напряженно прислушался к звукам, доносившимся из комнаты бабушки; она явно ничего не услышала, так как продолжала расхаживать по комнате. Все так же звенела посуда в горке, и бормотание бабушки напоминало разговор заключенного с самим собой. Еще не настал час крови в моче – страшная, периодически повторявшаяся сцена, когда бабушка торжественно проносила желтую жидкость через весь коридор, – из комнаты в комнату, без стеснения проливая ее по пути, и так же без всякого стеснения плакала горючими слезами. Мать в таких случаях говорила:
– Ничего страшного здесь нет, мама. Я позвоню Гурвеберу.
И дядя Альберт говорил:
– Ничего страшного здесь нет, бабушка, мы позвоним Гурвеберу.
И Больда говорила:
– Ничего страшного здесь нет, дорогая Бетти, позвони лучше врачу и перестань ломаться.
И Глум утром, когда он возвращался из церкви или с работы и его встречали ночным горшком, тоже говорил:
– Ничего страшного, дорогая бабуся, скоро придет доктор.
И Мартину приходилось говорить:
– Ничего страшного, милая бабушка, мы вызовем врача.
Каждые три месяца целую неделю все играли в эту игру, и со времени последнего представления прошел уже немалый срок – есть риск, что игра может возобновиться именно в этот вечер, в любую минуту.
Он все еще стоял, затаив дыхание, и радовался, что бабушка продолжает бормотать, продолжает ходить, а стеклянная горка продолжает свой концерт.
Он прокрался на кухню, в темноте нашел записку от матери – она всегда оставляла ее на краю стола на голубых разводах скатерти – и повеселел, услышав шаги Больды. Раз Больда дома – нечего опасаться криков бабушки: «Кровь в моче!» Больда и бабушка слишком давно знали друг друга, и в качестве единственной слушательницы Больда не представляла для бабушки никакого интереса.
Больда спустилась, шаркая шлепанцами по лестнице, зажгла в коридоре свет; она, единственная из всего дома, не боялась бабушки, и когда Больда вошла на кухню, зажгла свет и обнаружила там Мартина, он быстро приложил палец к губам, чтобы предостеречь ее. Больда что-то проклокотала, подошла к нему, потрепала по затылку и, как всегда с раскатистым «р», приглушенно заговорила:
– Бедный ребенок, ты, верно, кушать хочешь?
– Да, – тихо ответил он.
– Бульону хочешь?
– Да, – ответил он и залюбовался ее гладко зачесанными, черными как смоль волосами, смотрел на ее белое, как бумага, морщинистое лицо, на вспыхнувшее пламя газа да так и остался стоять возле Больды, достававшей из жестянки бульонные кубики – три, потом четыре.
– А хлебец с маслом, свеженький-пресвеженький?
– Очень хочу, – сказал он.
Она сняла с него ранец, шапку, снова сунула шнурок с ключом под рубашку: холодный ключ скользнул до пупка и там повис, чуть царапая кожу. Он достал из кармана записку матери и прочитал ее: «Мне опять необходимо было уйти». «Необходимо» она подчеркнула четыре раза. Больда взяла записку у него из рук, наморщив лоб, досконально изучила ее и бросила в помойное ведро, стоявшее под раковиной.
По комнате медленно распространялся запах бульона, запах, который дядя Альберт называл «пошлым», мать – «отвратительным», бабушка «простецким», зато нос дяди Глума блаженно морщился от этого запаха, да и самому Мартину он очень нравился по причине, которую до сих пор никто не разгадал: точно такой же запах имел бульон у Брилахов – запах лука, сала, чеснока и еще чего-то не поддающегося определению, что дядя Альберт называл «казарма». Сзади, там, где вдоль плиты протянулась труба, всегда стояла зеленая чашка без ручки, в ней Больда настаивала полынный чай, ею самой придуманный напиток, до тех пор пока он не превращался в густую, почти вязкую массу – теплая горечь, – от нее набегает слюна во рту, в горле першит, а в желудке разливается приятное тепло, и потом, когда ешь, все кушанья отдают этой горечью, хлеб будто замешен на полыни, суп будто приправлен ею, и даже, когда уже давно лежишь в постели, благотворная горечь словно из потайных закоулков рта, из скрытых желез притекает к небу и набегает горькая слюна.
«Раз в неделю – глоток полынного чая», – таков был неизменный рецепт Больды, и всякий, кому становилось дурно, у кого болел живот, должен был отведать из зеленой чашки без ручки. Даже бабушка, находившая отвратительным все, что ела и пила Больда, даже бабушка тайком наслаждалась глотком сгущенной горечи. Каждую неделю Больда доставала сухие, серовато-зеленые листья из протертого коричневого пакетика и заваривала новую чашку. «Лучше коньяка, – приговаривала она, – лучше всяких докторов, лучше, чем дурацкое свинское обжорство, лучше, чем пьянство, чем курение до одури, всего лучше на свете полынный чай и красивый хорал». Она сама нередко пела, хотя голос у нее был чудовищный: ее попытки уловить мелодию и ритм всегда были тщетны, а ей казалось, что поет она превосходно. Слух у нее был такой же немузыкальный, как и голос, поэтому ее невыносимое пение ей самой казалось весьма благозвучным, и каждую пропетую строфу она сопровождала торжествующей ухмылкой. Даже Глум, очень редко выходивший из себя, Глум, относившийся с бесконечным терпением ко всем и ко всему, выдерживавший безропотно целую неделю крики о «крови в моче», даже Глум приходил в состояние, ему совершенно несвойственное.
– Ох, Больда, пожалей мои нервы… – умолял он ее.
Но вот бульон у Больды разогрелся, хлебцы намазаны маслом, и, прихватив большую желтую чашку, Мартин тихо, в одних чулках, прошмыгнул вместе с Больдой вверх по лестнице в ее комнату мимо огромного, писанного маслом портрета дедушки: с портрета смотрел печальный худой человек с удивительно красным лицом, его рука с дымящейся сигарой лежала на зеленом столе. А внизу медная дощечка: «Нашему уважаемому шефу в день двадцатипятилетия фабрики от благодарных сотрудников. 1938».
И всегда казалось, что светло-серый, прекрасно нарисованный пепел вот-вот упадет на блестящий полированный стол; иногда он даже во сне видел, что пепел упал, просыпался утром, словно от толчка, и бежал к лестнице посмотреть; но пепел все еще висел на кончике сигары. Он всегда оставался там, светло-серый, удивительно верно нарисованный, и, всегда находя его на месте, Мартин испытывал какое-то облегчение, но одновременно и новую тяжесть в груди: ведь упади наконец этот пепел, и все было бы прекрасно. И цепочка от часов, так выписанная, что ее хотелось схватить рукой, и тонкий, серебристо-серый галстук с голубоватой жемчужиной. И всякий раз Больда говорила: «Да, Карл Гольштеге был хороший человек», как бы давая понять, что бабушке далеко до него.
От Больдиной синей юбки всегда пахло щелоком, и всегда она была обрызгана сверху донизу мыльной пеной, потому что основное занятие Больды заключалось в благочестивой уборке церквей. Из благочестия – не за деньги – прибирала она три церкви: приходскую, где два раза в неделю она торжественно шлепала по огромным покрытым мыльной пеной лужам от входа и до скамьи причастия, благоговейно скатывала ковры перед алтарем и, как черный ангел на облаке, проплывала вокруг алтаря в луже поменьше, совсем белой от мыльной пены. Еще она убирала церковь в парке и монастырскую часовню, куда часто ходил и дядя Альберт: темная часовенка, справа за скамьей причастия большая решетка, покрытая черным лаком, за нею синий занавес, отделяющий часовню от церкви, и за этой мрачной двойной оградой всегда-всегда поют монахини, только голоса у них поприятней, те же самые хоралы, что, как представлялось Больде, недурно поет и она сама. Четыре дня в неделю Больда убирает церкви, и четыре дня парит она – тощий черный ангел с белоснежным сморщенным лицом – в покрытых пеной, спустившихся на пол церкви облаках. Когда Мартин иногда заходил к ней, ему чудилось, что ее швабра – это весло, а синяя юбка – парус, с их помощью она хочет закинуть обратно в небеса упавшее на землю облако, но облако прилепилось к полу и ползет от входа до скамьи причастия и потом, еще сильней побелев от покрывающей его пены, с благоговейной медлительностью проползает вокруг алтаря.
В комнате у Больды очень уютно, хотя все здесь пропахло мыльной пеной, разваренной репой и пошлым бульоном. А от ее кушетки, как говорила мать, несет монастырской ожидальней; в этих словах заключался очень понятный ему намек, намек на прошлое Больды, когда она была монашкой. Ее кровать – это тоже слова матери – напоминает ложе Тарзана в джунглях. Но сейчас свет газовых фонарей проникал с улицы в комнату Больды, окрашивал все в зеленовато-желтый цвет, и когда он съел бульон и два хлебца, она выдвинула какой-то ящик и достала неизменное угощение, которое он с улыбкой принимал только ради нее, – слипшиеся в ком солодовые леденцы.
Он прилег на Больдину кушетку, сунул в рот леденец, чуть прикрыл глаза и стал смотреть на зеленовато-желтый свет от уличного фонаря. Больда не зажигала света, когда он приходил к ней. Она сидела у окна возле крохотной книжной полки, на которой было два вида литературы: молитвенники и кинопрограммы. Всякий раз, когда Больда ходила в кино, она непременно покупала программу, приносила ее домой, рассматривала картинки и рассказывала Мартину содержание, точно вспоминая все подробности. Чтобы лучше собраться с мыслями, она закрывала глаза и открывала их лишь тогда, когда хотела поглядеть на картинки и освежить в памяти какой-нибудь эпизод; она рассказывала ему целые фильмы, сцену за сценой, слегка переделывая их по своему вкусу. Когда по ходу действия Больда касалась главных действующих лиц, она тыкала в них пальцем, и все у нее получалось темным, резким, страшным, как в кровавой балладе – подлость, безбожие, распутство; но наряду с этим в ее рассказах фигурировали благородство и невинность: ослепительной красоты мужчины, которых обманывали ослепительной красоты женщины; ослепительной красоты женщины, которых обманывали ослепительной красоты мужчины; и тут же святой Павел, которого на пути в Дамаск поразила молния господня. Да, вот он сам, святой Павел, бородатый, объятый пламенем, на странице программки. И святая Мария Горетти, подло убитая похотливой свиньей – интересно, что такое «похотливая свинья»? Она, наверное, имеет какое-то отношение к безнравственному и бесстыдному. Но чаще всего речь шла о фильмах с удивительно красивыми женщинами, которые становились монахинями, таких монашеских фильмов было очень много, и ни одного из них он не видел, потому что на афиши с изображением монахинь никогда не наклеивали белую полоску: «Детям вход разрешен».
Но сегодня, судя по всему, Больда не имела никакого желания рассказывать об очередном фильме. В зеленовато-желтом свете фонаря она присела на окно и рылась в стопке молитвенников, пока не отыскала нужный ей. К счастью, он был без нот, будь он с нотами, Больда целый час распевала бы; а когда она не поет – слушать, как она спокойно бормочет слова молитвы, приятно; худая, черноволосая, она со спины очень напоминала мать Брилаха.
Стемнело, гуще стал зеленоватый свет с улицы, и все предметы в Больдиной комнате засверкали, как панцири ползущих жуков, и вдруг – гораздо раньше, чем можно было ожидать, – он услышал внизу голос матери, услышал, как подъезжают к дому автомобили, услышал смех матери и чей-то чужой смех, и ненависть к этим хохочущим чужакам охватила его, прежде чем он увидел их; он заранее ненавидел шоколад, который они принесут, свертки с подарками, которые они начнут разворачивать, слова, которые они скажут, вопросы, которые они начнут ему задавать. И он шепнул Больде:
– Скажи, что меня еще нет, и не зажигай огня.
Больда прервала молитву.
– Мать перепугается, если увидит, что тебя еще нет.
– А мы могли и не услышать, что она пришла.
– Не надо врать, сынок.
– Но еще хоть четверть часика можно остаться?
– Ладно, но ни минуты больше.
Если бы мать вернулась одна, он побежал бы к ней, рискуя даже, что немедленно начнется представление – «кровь в моче». Но он ненавидел людей, которые приходили к матери, особенно того толстого, который всегда говорил об отце. Мягкие руки и «превосходные лакомства». Еще гуще стал зеленый свет, сама Больда – чернее, а ее волосы – черней, чем она сама, – густая, чернильная тьма волос, и на них один лишь блик – слабый отблеск зеленого света; жесткие, длинные, совершенно гладкие волосы, и бормотание Больды, и, как всегда, в темноте всплывают слова – Гезелер, и безнравственно, и бесстыдно, и то слово, что мать Брилаха сказала кондитеру, и члены катехизиса, они тоже выскакивают из темноты: «Зачем пришли мы в мир сей?»
Почти все на свете безнравственно, очень многое – бесстыдно, а у Брилаха нет денег, и он целыми часами высчитывает, на чем бы сэкономить.
По-прежнему бормочет у окна Больда, темная, как индианка, и комната наполнена игрой зеленовато-желтого света; будильник на полочке над кроватью Больды; тихо, медленно тикает будильник, а внизу все усиливается шум, неумолимый, опустошающий шум; хихиканье женщин, смех мужчин, шаги матери, скрипит плохо смазанная кофейная мельница – «Может, вы предпочитаете чай?» – и вдруг сверху доносится дикий вопль: «У меня кровь в моче! Кровь!»
Напряженная тишина внизу, сегодня он наслаждается бабушкиным вторжением. Больда захлопнула молитвенник, повернулась к нему, пожала плечами, от всей души рассмеялась и шепнула:
– Ловко она это сделала! Поглядел бы ты на нее раньше, нет, не так уж она дурна. Кровь в моче!
Гости матери, очевидно, еще не знали этой игры, и она на какое-то мгновение заставила их оцепенеть, потом внизу снова начался приглушенный говор. Он услышал голос матери в комнате Альберта, – она звонила врачу, и бабушка молчала: теперь, когда вызвали врача, она твердо знала, что получит желаемое – шприц. Странный таинственный прибор из никеля и стекла, маленький и чистый, слишком даже чистый зверек с клювом колибри – прозрачного колибри, который насосется до отказа из стеклянной трубочки и потом вопьется в бабушкину руку. Голос бабушки, низкий и звучный, как орган, раздавался уже в комнате матери. Бабушка беседовала с гостями.
Больда включила свет, и сразу исчезло очарование, зеленое и черное очарование, унеслось счастье, и нельзя больше лежать на Больдиной кушетке, пахнущей монастырской ожидальней, и слушать бормотанье Больды.
– Ну, сынок, ничего не поделаешь, ступай вниз, можешь сразу лечь в постель, да ты не бойся, тебе, конечно, позволят спать у дяди Альберта.
Больда улыбнулась: она нашла верное, волшебное слово – спать у дяди Альберта.
Мартин улыбнулся Больде, она улыбнулась в ответ, и он медленно спустился вниз по лестнице. Словно тень огромного, диковинного зверя, стояла бабушка в дверях маминой комнаты, он услышал, как она нежно говорит своим низким, звучным, как орган, голосом:
– Господа, вы только подумайте, у меня кровь в моче.
И какой-то болван ответил ей:
– Сударыня, врачу уже обо всем сообщено.
Но тут бабушка услышала шаги Мартина, поспешно обернулась, бросилась к себе в комнату, как драгоценную добычу, вынесла оттуда бутылку с мочой, и, так как он стоял на третьей ступеньке, бутылка оказалась перед самым его носом.
– Ты только подумай, мой милый, опять у меня то же самое!
И он сказал то, что следовало сказать в этот торжественный миг:
– Не так уж это страшно, дорогая бабушка, скоро придет доктор.
Убедившись, что он уделил темно-желтой жидкости должное внимание, она неторопливо отвела от его носа склянку и сказала то, что привыкла говорить в такие мгновенья:
– Ты у меня добрый, жалеешь свою бабушку.
И ему стало стыдно, потому что он ни капельки не жалел свою бабушку.
Как королева, удалилась она в свою комнату. Из кухни выскочила мать, расцеловала его, и по ее глазам он увидел, что она еще не раз поплачет в этот вечер. Он любил мать, она нравилась ему, волосы у нее так хорошо пахли, но иногда мать становилась такой же глупой, как люди, которых она приводила с собой в дом.
– Досадно, что Альберт должен был уйти, он пообедал бы с тобой.
– Меня Больда накормила.
Мать покачала головой и улыбнулась, как всегда, когда он рассказывал, что ел Больдину стряпню. Другая женщина, такая же белокурая, как и мать, повязавшись грязным передником Больды, кружками нарезала крутые яйца на кухонном столе; эта чужая женщина слегка улыбнулась ему, и мать сказала то, что всегда говорила в таких случаях, то, из-за чего он просто ненавидел ее:
– Вы только подумайте, он любит грубую пищу – маргарин и тому подобное.
А женщина ответила то, чего и следовало ожидать, она сказала:
– Это прелестно!
– Прелестно! – закричали и другие дуры, появившиеся в дверях маминой комнаты.
– Прелестно! – не постыдились подхватить этот глупый крик двое мужчин. – Прелестно! – кричали они.
Всех людей, которые приходили по вечерам к его матери, он считал очень глупыми, и эти два глупца изобрели мужской вариант слова «прелестно». Они закричали: «Бесподобно!» – потащили его и стали кормить шоколадом, подарили заводной автомобиль, а когда он наконец вырвался от них, ему еще пришлось услышать вдогонку шепот:
– Потрясающий ребенок!
Как хороши зеленые сумерки в Больдиной комнате и Больдина кушетка, пахнущая монастырской ожидальней, как хороша комната Глума с большой картой на стене.
Он вернулся на кухню, где та же дура нарезала кружками помидоры, и услышал, как она говорит: «Я обожаю импровизированные ужины!» Мать раскупоривала бутылки, булькала вода в чайнике, розовые ломти ветчины громоздились на столе и вареная курица – белое мясо, чуть отливающее зеленым, – и чужая белокурая женщина сказала:
– Салат с курицей – это просто умопомрачительно, дорогая Нелла!
Он испугался: те, что называли мать «дорогая Нелла», приходили к ним чаще, чем называющие ее просто «фрау Бах».
– Можно, я пойду в комнату к дяде Альберту?
– Да, – ответила мать, – иди, я принесу тебе поесть.
– А я не голоден.
– Правда?
– Правда! – сказал Мартин, и вдруг ему стало жалко мать, – не очень-то счастливой выглядела она, – и он тихо добавил: – Спасибо, мама, я хорошо поел.
– Да, – сказала чужая женщина, в этот момент снимавшая ножом мясо с куриных костей, – я уже слышала, дорогая, что у вас живет Альберт Мухов, а я просто жажду познакомиться с кругом людей, знавших вашего супруга. Быть в центре культурной жизни – необычайное наслаждение.
В комнате у Альберта было хорошо: там стоял запах табака и чистого белья, которое всегда стопками лежало у него в шкафу. Белоснежные рубахи, в зеленую полоску и в розовато-коричневую полоску, чисто выстиранные, замечательно пахнущие. Они пахли так же приятно, как девушка из прачечной, которая приносила их; девушка была такая светловолосая, цвет ее волос почти не отличался от цвета ее кожи. При дневном свете она казалась очень красивой, и Мартин любил ее, потому что она была приветливая и не говорила глупостей. Часто она приносила ему рекламные воздушные шары, он надувал их и часами вместе с Брилахом играл в мяч прямо в комнате, не опасаясь что-нибудь расколотить; большие тугие шары из тонкой резины, на них красовались белые надписи: «Буффо отмоет любое пятно». На столе у Альберта всегда стопками лежала бумага для рисования, а ящик с красками стоял в углу возле шкатулки с табаком.
Но за стеной в комнате матери громко хохотали, и он злился, и ему тоже хотелось размахивать ночным горшком и вопить: «У меня кровь в моче!»
Еще один вечер испорчен, потому что Альберту тоже пришлось уйти. Обычно, когда мать оставалась дома и не ожидала никаких гостей, они по вечерам собирались у нее в комнате; иногда на полчасика заходил Глум и что-нибудь рассказывал, иногда Альберт садился за пианино и играл, а мать читала, но лучше всего было, когда Альберт поздно вечером катал его на машине или ходил с ним есть мороженое. Ему нравился яркий, пестрый свет в кафе, который излучал огромный петух, нравились пронзительные звуки радиолы, обжигающий холод мороженого, зеленоватый лимонад, в котором плавали льдинки, и он ненавидел глупых мужчин и женщин, которые находили его прелестным и восхитительным и портили ему вечера. Он выпятил губы, откинул крышку ящика с красками, достал длинную толстую кисть, обмакнул ее в воду и долго набирал на нее черную краску. Перед домом остановилась машина, и он сразу же услышал, что это машина врача, а не Альберта, он отложил кисть в сторону, дождался звонка и бросился в коридор, ибо сейчас должно было произойти то, что происходило всегда и что каждый раз снова волновало его. Бабушка выскочила из своей комнаты с воплем: «Доктор, милый доктор, у меня опять кровь в моче!» – и тихий маленький черноволосый доктор улыбнулся, осторожно подтолкнул бабушку назад в комнату и достал из кармана пиджака кожаный футляр величиной не больше портсигара, который Мартин видел у столяра, соседа Брилаха.
Усадив бабушку в кресло, врач осторожно расстегнул у нее манжет, закатал рукав блузы, как всегда покачал головой, любуясь ее полной, белоснежной, словно рубахи Альберта, рукой и пробормотал: «Ну, совсем как у молодой девушки, как у молодой девушки», – а бабушка улыбалась и торжествующе смотрела на бутылку с мочой, которая в это время красовалась либо на середине обеденного стола, либо на чайном столике, что на колесиках.
Мартину полагалось держать ампулу, так как мать с этим никогда не справлялась. «Меня трясет от одного взгляда на ампулу», – говорила она. Когда врач срезал головку ампулы, Мартин стоял совершенно спокойно, и доктор, как всегда, сказал:
– Ты храбрый мальчуган!
Мартин внимательно следил, как маленький, тонкий клювик колибри погружается в прозрачную жидкость, как врач оттягивает поршень, как шприц наполняется чем-то бесцветным, обладающим чудодейственной силой. Беспредельно счастливым, кротким и красивым становилось лицо бабушки. И он не испытывал ни малейшего страха, когда врач внезапно вонзал клювик колибри в руку бабушке – это было как укус, – нежная белая кожа чуть напрягалась, словно ее клюнула птичка. Бабушка неотрывно смотрела на нижнюю полку чайного столика, где стояла «кровь в моче», врач же осторожно нажимал на поршень и впрыскивал в бабушку безграничное счастье. Еще рывок, врач извлекает клювик из бабушкиной руки – и загадочный, счастливый вздох бабушки. Он оставался у бабушки и после ухода врача, хотя ему было страшно, но любопытство было сильнее страха, здесь свершалось что-то ужасное, столь же ужасное, как и то, что делали в кустах Гребхаке и Вольтере, столь же ужасное, как слово, которое мать Брилаха сказала в подвале кондитеру – ужасное, но зато таинственное и заманчивое. Вообще-то, по своей воле, он ни за что не остался бы у бабушки, но если ей делали укол, он оставался. Бабушка лежала в постели, над нею поднималась какая-то светлая волна, которая делала ее молодой, счастливой и несчастной, она глубоко вздыхала и плакала, а лицо у нее расцветало и становилось почти таким же гладким и красивым, как лицо матери. Разглаживались морщины, глаза сияли, излучая счастье и покой, а слезы текли не переставая, и в эти минуты он вдруг начинал любить бабушку, он любил ее большое цветущее лицо, всегда внушавшее ему страх, и он твердо знал, как он поступит, когда вырастет большой и почувствует себя несчастным: он попросит, чтобы ему прокололи руку клювиком колибри, вливающим счастье, – несколько капель бесцветного Нечто. Теперь его не мутило в бабушкиной комнате, не мутило даже при виде бутылки, стоящей на нижней полке чайного столика на колесиках.
Он клал руку на бабушкино лицо – сперва на левую щеку, потом на правую, потом на лоб, потом долго держал ладонь над ее губами, чтобы чувствовать ее спокойное и теплое дыхание, и под конец задерживал руку на бабушкиной щеке, и он больше не ненавидел ее: замечательно красивое лицо, так изменившееся от какого-то полунаперстка бесцветного Нечто. Иногда бабушка даже не засыпала, и, не открывая глаз, она ласково говорила ему: «Славный мальчик!», и ему становилось стыдно, потому что обычно он ее ненавидел. Когда она засыпала, он мог спокойно осматривать ее комнату, у него никогда не находилось времени для этого из-за страха и отвращения. Большая черная горка, дорогая, старинная, вся набитая хрустальной посудой. Здесь были хрустальные вазы и крохотные тонкие рюмки для водки, стеклянные фигурки: синеглазая с матовым узором лань, пивные кружки. Потом, все еще не снимая руки с лица бабушки, он смотрел на фотографию отца: она была больше, чем та, что висела над постелью у матери, и здесь отец был еще моложе, совсем молодой и смеющийся, с трубкой во рту, темные густые волосы четко выделяются на фоне неба, на небе белые, как клочки ваты, облачка. Снимок такой резкий, что можно различить даже выпуклый узор – цветы на металлических пуговицах вязаного жилета отца, а узкие темные глаза смотрят на Мартина так, словно отец в самом деле стоит там, в темном углу, между горкой и столиком, где висит снимок, и никогда, никогда ему не удавалось понять: печален отец на этом снимке или весел. Уж очень он молодо выглядел, почти так, как старшеклассники в их школе. На отца он, во всяком случае, не похож ни капельки. Отцы бывают старше, солидней и серьезней. Отца можно узнать по тому, как он сидит за столом, – ему обязательно подают яйцо к завтраку, – как он читает газету, как привычным движением он снимает пиджак. Отец так же мало походил на отцов других ребят, как дядя Альберт на дядей других мальчиков. Мартин гордился, что у него такой молодой отец, но к этому примешивалось чувство какой-то неловкости: казалось, будто он не настоящий отец, и мать казалась не настоящей матерью, – от нее пахло иначе, чем от матерей других мальчиков, она казалась легче и моложе их, и никогда она не говорила о том, чем жили другие люди, о том, что определяло характер матерей других мальчиков, – она никогда не говорила о деньгах.
Вид у отца не очень счастливый, – к такому выводу он всегда приходил под конец, но вовсе не из-за того слова, которое неразрывно связано с другими отцами, – вовсе не из-за забот. Заботы есть у всех отцов, все отцы старше, но все они, каждый по-своему, выглядят ничуть не счастливее, чем его отец…
На Глумовой – во всю стену – карте мира были три жирных точки: первая – место, где родился Глум, вторая – место, где они жили, а третья – место, где погиб отец, – Калиновка.
Он совсем забыл про бабушку, хотя рука его все еще лежала на ее спящем лице, забыл про маму и глупых гостей, про Глума и Больду, даже про дядю Альберта, – он спокойно рассматривал портрет отца в темном углу между горкой и чайным столиком.
Он все еще продолжал сидеть там, когда мать позвала его, – Альберт уже давно вернулся. Мартин пошел за матерью, не сказав ни слова, разделся, лег в постель, прочитал вечернюю молитву: «Если не отпустишь нам, господи, грехи наши», и когда Альберт спросил его, не устал ли он, ответил – да, ему очень хотелось побыть одному. А когда выключили свет, даже глупый смех в соседней комнате перестал мешать ему, – он закрыл глаза, увидел портрет отца, надеясь, что отец придет к нему во сне таким же молодым, беззаботным, может быть, улыбающимся, гораздо более молодым, чем дядя Альберт. Он ходил гулять с отцом в зоопарк; он подолгу катался с ним на автомобиле, зажигал ему сигарету, набивал трубку, помогал ему мыть машину и исправлять повреждения, ездил верхом рядом с ним по бесконечным равнинам и тихо про себя с наслаждением бормотал: «Мы мчимся к горизонту», – слово «горизонт» он повторял медленно и торжественно, и молился, и надеялся, что отец так и явится в его сновидениях – верхом или в машине, мчащейся к горизонту.