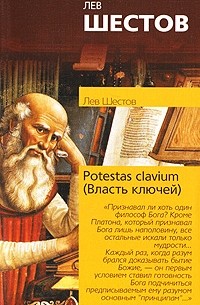Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
О корнях вещей
I
Общее место философии: «лишь то имеет истинное бытие, что не знает изменения, что не имеет начала и не подвержено уничтожению». Если и допустить, что это верно (хотя этого допустить нельзя), то обратное положение, т. е. что все не подвергающееся изменению и уничтожению имеет истинное бытие, уже никак не может почитаться правильным, хотя бы потому, что нам решительно невозможно узнать, что не подвержено изменению и гибели; нам только известно, что не подвержено более или менее немедленному изменению и гибели. Даже бытие идеального считается вечным и неизменным, по-видимому, лишь в силу недоразумения. Конечно, общее понятие – напр.: лев, комар, ихтиозавр, остается существовать в то время, как множество живых львов, комаров и ихтиозавров исчезают неизвестно куда. И «человек» есть по сию пору, хотя о Сократе, Цезаре и Александре Великом сохранилось только воспоминание, которое в свое время тоже канет в Лету. Но где истинное бытие: в погибшем Сократе, который все-таки хоть и не очень долго, но был живым, или в сохранившемся «человеке», который еще никогда живым не был? Для Гегеля такого вопроса быть не может. А меж тем тут вопрос есть, и вопрос кардинальной важности. Ибо après tout204 «человек» хотя и долговременнее Сократа, но вовсе не вечен, и многие общие понятия окончательно погибли, так погибли, что о них не сохранилось даже и воспоминания…
«Кто знает, что такое истинная философия, того, – уверяет Гегель, – не беспокоит мифология Платона, тот и его теорию идей понимает как теорию общих понятий». Конечно, и тут возникает вопрос: кто знает, что такое истинная философия и чем она отличается от неистинной? Точнее, кому и кем вверено суверенное право дать последний и окончательный ответ на этот вопрос? Как известно, каждый философ присваивает это право себе. Правда, как я сказал уже, подавляющее большинство философов с древнейших времен было убеждено, что предметом их изысканий должно быть лишь вечное и неизменное. В этом смысле Гегель не отличается от большинства, можно было бы сказать, от философской толпы, если не гнушаться обычными в науке и очень действенными полемическими приемами. Правда и то, что «вечное» имеет пред временным много внешних и очень соблазнительных преимуществ, так что можно допустить, что слабая человеческая природа сказалась и в философах: вечное и неизменное прельстило их не только потому, что оно по своему «существу» выше преходящего и изменчивого, а потому, скажем, что оно легче поддается фиксации и, стало быть, изучению. Гераклит дразнил разум: нельзя, говорил он, дважды выкупаться в одной и той же реке. На самом деле и раз не выкупаешься в одной реке. Река непрерывно течет, каждое мгновение она становится другою, ее нельзя задержать и остановить хотя бы на то короткое время, которое нужно человеку, чтобы погрузиться в воду. И не только река течет, все течет, все меняется, все становится другим. А понятия – остаются. И только при посредстве понятий можно остановить сумасшедшую пляску бытия.
Понятия представлялись философам как бы радугой на водопаде: брызги сыпятся, уходят и пропадают, радуга неподвижна и неизменна. Где искать сущности вещей, о чем думать: об уходящих брызгах или вечной радуге? Так ставили вопрос, забывая, что радуга – тоже преходит, что с закатом солнца радуга перестает существовать, а брызги и капли воды, хотя они много раньше уходят с поля нашего зрения, остаются. И что сменяющиеся и так быстро пропадающие брызги, в последнем счете, «вечнее» радуги – они хотя уходят и сменяют друг друга, но все же не гибнут, а только перемещаются с места на место. Так что если под сущностью понимать пребывающее, то, конечно, сущностью оказывается не радуга, а водяные капли. Но и не это главное. Главное, что философский реализм (я разумею здесь реализм не в современном, а в средневековом смысле), всегда гордившийся своей возвышенностью и высокомерно презиравший материализм как нефилософскую теорию, сам в своих основных чертах настолько близок к материализму, что приходится только дивиться – почему эти системы так постоянно и упорно враждуют меж собой. Особенно это нужно сказать о философии Гегеля. Я выше заметил, что Гегель не принимал всерьез мифологии Платона. Не любил он и манеру изложения Платона – в одном месте он даже прямо говорит о болтливости «божественного» философа. Правда, как водится, уступая традиции, предварительно он отдает должное красоте и возвышенности платоновского стиля – но о болтливости не мог или не хотел умолчать. И это отнюдь не случайность, так что приходится только пожалеть, что Гегель подробнее не развил брошенной им мимоходом мысли. «Болтливость» Платона, конечно, находится в прямой связи с его интересом к мифологии. С точки зрения философии, которую представляет собой Гегель, всякая мифология есть по существу своему болтовня, философ обязан мыслить в понятиях, и кто этого не знает, тот не знает, что такое философия. Этого положения ни Гегель, ни его предшественники никогда не могли обосновать – и оно никогда не может быть обосновано, т. к. оно, собственно, предполагается само всяким обоснованием. И вот задачей философии для философа-реалиста (напомню еще раз, что я все время говорю о реализме в средневековом смысле слова, т. е. о том, что в новейшее время называется идеализмом) является статика и динамика идеального. Понятия движутся и переходят одно в другое по собственным, им имманентным законам – постичь внутреннюю связь и необходимость этого движения есть задача философии. Поэтому Гегель последователен, превращая логику в онтологию. Также остается он верным себе, восставая против кантовского опровержения онтологического доказательства бытия Божия. Кант, как известно, утверждает, что понятие о ста талерах по существу отлично от действительных ста талеров, ибо понятие о ста талерах не предполагает еще бытия их. Гегель считает такого рода рассуждение обывательским. Конечно, говорит он, для индивидуального человека (т. е. для обывателя) такая разница существует: он хочет иметь не понятие о ста талерах, а сто талеров. Но обыватель должен возвыситься до философского состояния, при котором для него делается совершенно безразличным, обладает ли он ста талерами или не обладает, хотя бы они составляли большую часть или даже все его состояние. Гегель в своей требовательности идет еще дальше: философу, говорит он, должно быть все равно, ему даже безразлично, существует ли он сам или не существует, по крайней мере, прибавляет он, в своей конечной жизни. В своем моральном пафосе он доходит до того, что повторяет известный стих Горация:
и делает из него основную философскую заповедь, обязательную для христианского философа еще в большей степени, чем для языческого…
Напрасно только Гегель ограничивает свое положение, требуя от человека равнодушного отношения лишь к своему конечному, земному бытию. Напрасно, ибо тут явно кроется неточность, и очень роковая неточность. Бесконечное бытие до такой степени оторвано от бытия конечного, что только традиционной спутанностью идей можно объяснить готовность Гегеля подводить эти два понятия под общий род. Гораздо правильнее было бы называть их разными, даже прямо противуположными именами, как Гегель, впрочем, иногда и делает. Т. е. если мы говорим о бытии конечного, отдельного, индивидуального, то общему мы должны давать предикат небытия, и наоборот. Так что, по точному смыслу, упомянутое суждение Гегеля было бы более адекватно выражено, если бы приведенное ограничение было опущено. Нужно просто сказать, что философу, возвысившемуся над обыденностью, должно быть безразлично, существует или не существует весь мир. Отдельное бытие должно быть сведено к бытию вообще, во всей его возвышенной и гордой отвлеченности – таково первое теоретическое и практическое требование, предъявляемое философу. Уметь пренебречь отдельным для общего – значит философски возвыситься.
Прежде чем оценить это положение Гегеля, я хотел бы обратить внимание на то обстоятельство, что указанное требование отнюдь не выдумано им самим. И даже не им формулировано. Оно доминирует во всей философии и, как мне уже приходилось однажды указывать, впервые получило свое выражение в единственном дошедшем до нас фрагменте Анаксимандра. И с тех пор оно уже не исчезает и в философии. Гегель только особенно часто и настойчиво повторяет его, словно подчеркивая, что оно является articulus stantis et cadentis philosophiæ. И потому, быть может, ни одна из идеалистических систем не оказывается столь родственной материализму, как система Гегеля. Его «мысль», его «идеальное» так же мало заключает в себе одушевленности и жизни, как и материя материалистов. И Бог его – Гегель чаще, чем какой-либо другой философ, называет Бога, – и Абсолютное, и Дух, все высокие, возвышеннейшие идеи в этом отношении нисколько не отличаются от материи. Очевидно, первым условием и предположением научного мышления является гибель одушевленного. Гегель, как и его предшественники и преемники – идеалисты и материалисты, равно торжествуют, когда им удается установить γένεσις καὶ φθορά для всех живых существ. Даже и для Бога, если он живой, должны быть γένεσις καὶ φθορά, и Бог, стало быть, должен возвыситься над собой и раствориться в общем понятии, которое одно только и является для философа достойным предметом внимания. Вот почему нет никакой возможности отрицать законность притязаний крайней гегельянской левой на magister dixit.205 Учитель сказал, на самом деле сказал все то, что вывела школа исторического материализма. История есть процесс, а материализм вовсе не «индивидуален». Материализм тоже возвышается над отдельным существованием. Для него Горациев стих столь же священен, как и для Гегеля, и к бытию индивидуальных существ он совершенно равнодушен, относительно же личного Бога он куда радикальнее Гегеля и самым решительным образом оспаривает у Него право на предикат бытия.
Существует только материя и порядок. Ибо это пребывает, не меняется. Все же прочее – лишь надстройки.
Если хотите, левые гегельянцы напрасно называли себя материалистами: их материя так же идеальна, как и их порядок, и уже, во всяком случае, в ней нет ни на грош больше той преступной одушевленности, с которой, вслед за Анаксимандром, боролась вся эллинская философия и от которой предостерегает Гегель. Основное требование философской морали – у философии есть своя мораль, в философии мораль самое ее существо – соблюдено со всей строгостью, на которую может претендовать самая щепетильная наука. Ибо преступность индивидуального или одушевленного – в его самовластии. В царстве же исторического материализма нет места личному произволу – все происходит с «железной необходимостью», по однажды заведенному порядку…