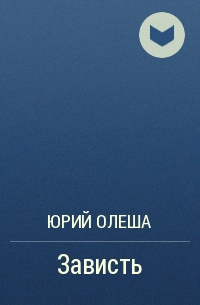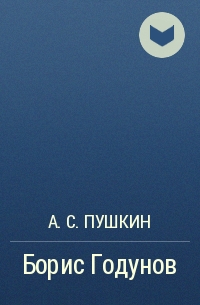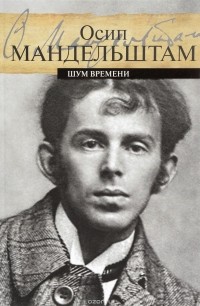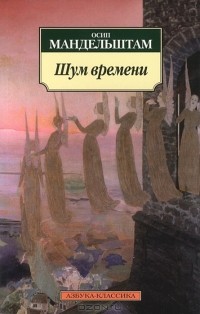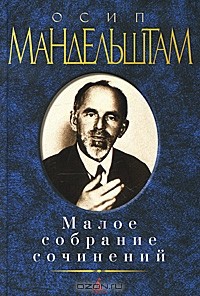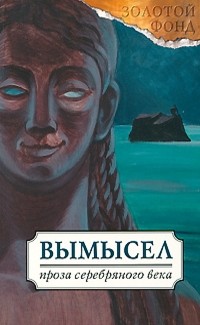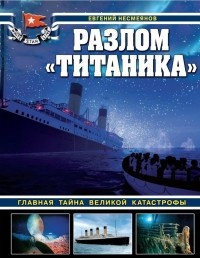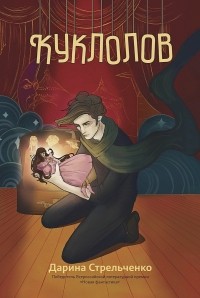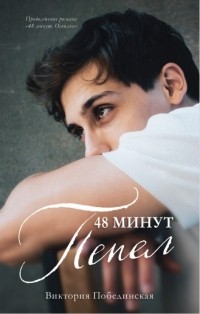Четвертая проза
Осип Мандельштам
Конфликт с Горнфельдом отнюдь не составляет всего содержания «Четвертой прозы». Личная тема перерастает в тему несовместимости поэта с «литературой», которая слишком быстро адаптировалась и превратилась в служанку властвующей партии. «Я настаиваю на том, что писательство в том виде, как оно сложилось в Европе, и в особенности в России, несовместимо с почетным званием иудея, которым я горжусь... Писательство – это раса с противным запахом кожи и самыми грязными способами приготовления пищи. Это раса, кочующая и ночующая на своей блевотине, изгнанная из городов, преследуемая в деревнях, но везде и всюду близкая к власти, которая ей отводит место в желтых кварталах, как проституткам. Ибо литература везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными»
Лучшая цитата на книгу
"Писательство - это раса с противным запахом кожи и самыми грязными способами приготовления пищи. Это раса, кочующая и ночующая на своей блевотине, изгнанная из городов, преследуемая в деревнях, но везде и всюду близкая к власти, которая ей отводит место в желтых кварталах, как проституткам. Ибо литература везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными.
Писатель - это смесь попугая и попа. Он попка в самом высоком значении этого слова. Он говорит по-французски, если хозяин его француз, но, проданный в Персию, скажет по-персидски - "попка-дурак" или "попка хочет сахару". Попугай не имеет возраста, не знает дня и ночи. Если хозяину надоест, его накрывают черным платком, и это является для литературы суррогатом ночи."
С тем большей охотою предаюсь я предложенной Мандельштамом игре, что радоватьсято нечему: все это лишь слегка заострено и преувеличено, и не только по отношению к писателям, но и по отношению к евреям. Копимая всю жизнь горечь была вылита на оба племени, к которым он вольно или невольно себя относил. Но, перебегая в ледоход реку жизни, ты можешь прыгать только по льдинам, а падение в воду заставляет даже ухватиться и из последних сил держаться за них. Кем прикажешь себя числить? Как и куда уйти из ненавидимого своего? Кто был никем, тот станет всем, да, но как стать никем? Еврей не может стать русским, он может быть только российским. То, что Мандельштам крестился, не имело решающего значения: в те времена крестились по соображениям служебным и жилищным - христиане деликатно не обращали внимания на такие крещения - или из соображений религиозных, но это до революции было делом личным. На рубеже 19-го и 20-го веков, чтобы не быть больше российским евреем, он должен был стать российским интеллигентом, революционером или писателем. Казалось что эти звания, особенно два последних, вследствие особенной своей возвышенности, освобождают человека от национальности, что подобно древнегреческим художникам, он входит в союз космополитов.
Да, было время, когда космополиты были родными. У них был свой, великий род: род благодетелей человечества. И вдруг выясняется, что не рождала земля большей мерзости, чем этих своих благодетелей, а также обнаруживается очевидное сходство (и значит, связь) тех космополитов с этими. Как говорила Марина Цветаева: "Все поэты - жиды!".
Возможно, Мандельштам увидел что никуда он не ушел, а слепил из вторсырья одной веры другую, по меньшей мере не лучшую. О том что не лучшую, свидетельствуют робкие попытки, скрываясь за мрачным юмором, найти в ненавистном юдаизме нечто для себя, место куда ногу поставить. Этим местом стали конечно же патриархи, еврейство доеврейское, еще несуетливое, хранящее пастушеское достоинство. Мандельштама до конца дней одолевало желание принадлежать, довольно, кстати, еврейская страсть, но здесь, в "Четвертой" он говорит - по крайней мере писателям: "Я - не вы". Это - казнь литературы. Временная. Ее обман и раньше был не вовсе скрыт от него, но полному отчету мешала обещанная награда, ибо награда закрывает не только уста, но и уши, глаза и самое сердце, и не только у малых, а именно что у великих. Ведь "великие" самообманом велики; когда стало ясно что награда украдена задолго до начала игры - он казнил проклятое ремесло. A потом испугался и казнил казнь: до нас дошла лишь часть "Четвертой прозы". Попытка, казня литературных палачей, оставить в живых палача палачей, то есть себя, выделить в литературе антилитературу - "Было два брата Шенье: презренный младший весь принадлежит литературе; казненный старший - сам ее казнил" - не убеждает его самого. Вот признание:
Я - стареющий человек - огрызком собственного сердца чешу господских собак, и все им мало, все им мало...
Четвертая проза, 15
Кому? Собакам? Господам? Критикам, читателям, властям? Нет, не их одобрения он ждет. Их нелюбовь - всего лишь признак иного невниманья: поэт, как и все остальные, оказался неравен. A они ведь не чесали огрызком - и так же неравны, как и он. Опять, как всегда, не удалось "привлечь к себе любовь пространства". Она, если и привлекается, то не стихами. Ими привлекается всего лишь Слава, ее надо переплавлять в Любовь Пространства, мысленно и в тайне от себя. И вот, не хватает чего-то в этой алхимии, копится нехватка и приводит поэта к его раннему и нехорошему концу. Любовь же Пространства остается сама по себе.
Род уходит и входит другой, A земля пребывает вовеки,
как сказал Экклезиаст. Честь - чесать... Неравенство, на которое человек может ответить лишь молитвою или молчанием, не приемлемо для любящего честь Исава. Все тут - поиск знака равенства, что в математике, что в политике, что в поэзии. Везде одно: что-нибудь к чему-нибудь приравнять, выстроить весь мир в состав, скрепленный подобием. И труд бесконечен, и плод сомнителен: ничто ничему не равно, и никто не равен никому, и о самом занятии сказано там же:
Что пользы человеку во всех его трудах, Которыми он трудится под Солнцем?
...Как - односторонне, ни на какую полноту не претендуя - определить "Четвертую прозу"? Это крик: "Всем, к кому я пытался (и еще попытаюсь) хоть как-то присоединиться, присоседиться, с кем примирялся, договаривался односторонне в стихах и прозе, чье существование оправдывал упоминанием и мимоходом, - всем плюнуть в морду, потому что больше невозможно!"
Коммунисты, евреи, писатели, буржуа, комсомол, критики вызывают у него отвращение, настоенное на ужасе выскребленного бытия. Все пронизано страхом смерти - тем нормальным страхом, который охватывает осознавших свою непринадлежность и сводит с ума. "Четвертая проза" - это "все скажу!" сумасшедшего, это - выдох. В.И.Горенштейн. Перекресток Мандельштама
Форма: очерк
Оригинальное название: Четвертая проза
Дата написания: 1930
Первая публикация: 1966
Жанры: Публицистика