21 апреля 2020 г., 16:17
1K
Кладбище говорит «нет»: Арундати Рой — о художественной литературе во времена фейковых новостей

Какова роль писателя во времена растущего национализма?
Автор:
Ниже приводится текст лекции, проведенной в 2020 году. Серия данных лекций, посвященная профессору Кларку, организована Институтом английской литературы, Тринити-колледж, Кембридж.
Спасибо, что пригласили меня выступить на лекции имени Грэма Кларка, которая проводится уже 132-ой год подряд. Получив приглашение, я пролистала список предыдущих ораторов, где было много «сэров» и им подобных, которые посвящали данную лекцию различным темам, например, «Литературная критика эпохи королевы Анны», «Критика Шекспира во Франции в эпоху Вольтера», «Высшая привилегия: профессиональные стандарты в английской поэзии» и «Писатели и написанное: поэзия Спенсера, Шекспира, Мильтона, Йейтса и Элиота».
В мультяшной версии этой истории мой персонаж бы нахмурился, а в облачке с речью было бы что-то вроде «Э?» Я успокоилась, правда, ненадолго – пока не взглянула на «Исследования по американскому африканизму» Тони Моррисон. Я спросила доктора Джона Маренбона, который меня и пригласил, могу ли я посмотреть тексты каких-нибудь предыдущих лекций, так как найти их в Интернете у меня не вышло. Он очень любезно ответил, что лекторов никогда не просили предоставлять свои материалы для Тринити-колледж, но вот труд «Разновидности метафизической поэзии Т. С. Элиота» появился как раз после лекции Кларка, как и «Аспекты романа Э. М. Форстера».
В общем говоря, никаких ограничений.
Эта лекция основана на серии недавних выступлений, в которых я рассуждала о месте литературы в наше время, и о политике языка, как государственной, так и частной.
Из-за этого моя задача становится немного неясной. Иногда предполагается, что многие из вас уже знакомы с моими работами, что может не соответствовать действительности и за что я прошу прощения.
Кладбища в Индии по большей части мусульманские, так как христиане составляют небольшую часть населения, а индусы и большинство других общин, если вы знаете, своих покойников кремируют. Мусульманское кладбище, кабристан, всегда занимало важное место в сознании и риторике индуистских националистов.
«Муссальман ка эк хи стхан! Кабристан йя Пакистан!», то есть «Одно из двух для мусульман! Могила либо Пакистан!» Это один из наиболее распространенных военных кличей кровожадных, вооруженных ополченцев и мятежников, наводнивших улицы Индии.
Поскольку индусские радикалы взяли на себя почти полный контроль над государством, а также негосударственными аппаратами, все более и более очевидный социальный и экономический бойкот мусульман толкнул последних вниз по социальной лестнице и сделал их еще более нежелательными в «светских» общественных пространствах и жилых поселениях. В целях безопасности, а также при острой необходимости, в городских районах многие мусульмане, включая элиту, отступают в анклавы, которые часто пренебрежительно называют «мини-Пакистанами». Сейчас в жизни, как и в смерти, сегрегация становится правилом.
В то же время в городах, подобных Дели, бездомные и обездоленные собираются в усыпальницах и на кладбищах, которые стали местом покоя не только для мертвых, но и для живых. Сегодня я расскажу о мусульманском кладбище, кабристане, ставшим новым гетто — в прямом и переносном смысле — новой индуистской Индии. Ну и о создании художественной литературы в такие времена.
В каком-то смысле «Министерство наивысшего счастья» , опубликованный мной в 2017 году роман, можно рассматривать как беседу между двумя кладбищами. Одно кладбище там, где Анжум, родившаяся мальчиком в мусульманской семье в городе-крепости Дели, строит жилище для себя и постепенно возводит гостевой дом — Джаннат (Рай), куда множество людей приходят в поисках укрытия. Другое же кладбище — неземной красоты долина Кашмира, которая после 30 лет войны усеяна кладбищами и так почти стала, образно говоря, им сама. Итак, кладбище под прикрытием гостевого дома под названием «Рай», и собственно рай, укрытый кладбищами.
Этот разговор, эта болтовня между двумя кладбищами, была и является строго запрещенной в Индии. В реальном мире это считается государственным преступлением, даже изменой. К счастью, в художественной литературе применяются другие правила.
Прежде чем мы перейдем к запрещенному разговору, позвольте мне описать вам то, что я наблюдаю со своего письменного стола. Некоторые писатели, наверное, захотели бы закрыть окно или перейти в другую комнату. Поэтому наберитесь немного терпения, потому что именно в этой среде – где я топлю печь, храню кастрюли и сковородки – именно здесь я создаю свою литературу.
Сегодня уже 193-й день с тех пор, как правительство Индии отключило Интернет в Кашмире. После нескольких месяцев без мобильного Интернета или широкополосной связи, семи миллионам кашмирцев, которые живут в условиях самой плотной военной оккупации в мире, было разрешено просматривать так называемый белый список — несколько утвержденных правительством веб-сайтов. К ним относятся несколько избранных новостных порталов, но не социальные сети, от которых так зависят кашмирцы, учитывая враждебность по отношению к ним со стороны основных индийских СМИ, где всегда существует шанс персональной публикации своего взгляда на жизнь. Другими словами, у Кашмира теперь есть формально защищенный Интернет, и это может стать будущим для многих из нас в этом мире. Это как если бы страдающий от жажды человек пытался напиться воды из пипетки.
Отключение интернета нанесло ущерб практически всем аспектам повседневной жизни в Кашмире. Полный масштаб учиненных им неприятностей еще даже не исследовали. Это новаторский эксперимент по массовому нарушению прав человека.
Помимо информационной блокады, тысячи кашмирцев, включая детей, активистов гражданского общества и политических деятелей, заключены в тюрьму — некоторые в соответствии с драконовским «Законом об общественной безопасности». Это еще только начало эпичной и постоянно развивающейся трагедии. В то время как мир отводит глаза, бизнес встал, поток туристов сократился до минимума, сам Кашмир затих и постепенно исчезает с карты. Никому из нас не нужно напоминать о том, что происходит, когда места пропадают с карты. Когда последует ответный удар, я, например, не буду среди тех, кто притворяется удивленным.
Между тем, правительство Индии приняло новый закон о гражданстве, который хитро составлен и явно дискриминирует мусульман. Я подробно рассказывала об этом на лекции, которую проводила в ноябре прошлого года, поэтому я не буду сейчас подробно говорить о законе, за исключением того, что есть возможность вызвать кризис безгражданства в невиданном прежде масштабе.
То, чем были нюрнбергские законы 1935 года для Третьего рейха, является Раштрия сваямсевак сангх (источник индуистского национализма) для партии Нарендры Моди, Бхаратия Джаната; было предоставлено право решать, кто является законным гражданином, а кто нет, основываясь на конкретных документах, которые люди должны были представить, чтобы доказать свою генетическую принадлежность. Лекция «Сигналы конца» — один из самых мрачных текстов, которые я написала.
Три месяца спустя мрачность превратилась в осторожную надежду. Законопроект о внесении изменений в гражданство был принят в парламенте 11 декабря 2019 года и стал «Законом о внесении изменений в гражданство». Студенты поднялись через несколько дней. Первыми отреагировали студенты Алигархского мусульманского университета и Национального Исламского университета в Дели. В ответ полицейский отдел по охране общественного порядка атаковал кампусы со слезоточивым газом и электрошокерами. Студенты были жестоко избиты, некоторые изуродованы, а один ослеп на один глаз. Вслед за этим, гнев распространился на кампусы по всей стране и выплеснулся на улицы.
Возмущенные граждане, возглавляемые студентами и женщинами-мусульманками, занимали общественные площадки и блокировали дороги на протяжении нескольких недель. Индуистские националисты, прикладывающие титанические к тому, чтобы клеймить мужчину-мусульманина террористом джихада, ненавидящего женщин, и даже выдает себя за спасителя мусульманских женщин, немного смущены этим ярким, резким и глубоко женским гневом. В Дели, с его символическим протестом в районе Шаин Ба, тысячи, десятки тысяч, а иногда и сотни тысяч человек перекрыли главную дорогу почти на два месяца. Это породило мини-Шаин Ба по всей стране. Миллионы выходят на улицу, пытаясь освободить свою страну, машут флагом Индии, обещают поддержать Конституцию и зачитывают ее Преамбулу, в которой говорится, что Индия является светской, социалистической республикой.
Этот гимн нового восстания, лозунг, звучащий в городах, кампусах и на перекрестках по всей стране, является вариацией культового пения борцов за свободу в Кашмире: Ам кья ашанти? Азади! — «Чего мы хотим? Свободы!» Данный лозунг является припевом в текстах нескольких песен, которые описывают гнев людей, их мечту и предстоящую битву. Но это не значит, что любая группа может претендовать на право владения слоганом Азади — у него длинная и разнообразная история.
Он был лозунгом иранской революции, которая недавно отметила свое 40-летие, и части феминистского движения на нашем субконтиненте в 70-х и 80-х годах. Но за последние три десятилетия слоган прежде всего стал известен в качестве гимна улиц Кашмира. И теперь, в то время как они замолчали, ирония заключается в том, что сдержанность народа напрямую соотносится с подобной лирикой, ритмом и тактом, что отражается эхом на улицах страны, которую большинство кашмирцев считают своим колонизатором. Что лежит между тишиной одной улицы и звуком другой? Это пропасть или то, что может стать мостом?
Позвольте мне зачитать вам краткое разъяснение кашмирского пения Азади из «Министерства наивысшего счастья». «Я» в данном фрагменте текста – Биплаб Дасгупта, известный среди своих друзей по неактуальным для нас причинам — как Гарсон Хобарт. Он учтивый и выдающийся индийский разведчик, служащий в Кашмире. Хобарт не поддерживает борцов Кашмира. Это 1996 год – один из самых мрачных периодов вооруженного восстания, которое бушевало в долине на протяжении 90-х годов. Хобарт угодил в ловушку вместе с окружением губернатора в национальном парке на окраине Сринагара. Они не могут вернуться домой, потому что город захвачен сотнями тысяч скорбящих, несущих свою последнюю партию мучеников на кладбище. Секретарь Хобарта общается с ним по телефону, советуя не возвращаться, пока улицы не вернутся в распоряжении их стороны:
Сидя на веранде гостевого дома в Дачигамском лесу, откуда доносились пение птиц и стрекотание сверчков, я слышал в трубке гром сотен тысяч голосов, взывавших к свободе: «Азади! Азади! Азади!» Этот гром не прекращался ни на секунду, он длился вечно. Даже по телефону он внушал страх…
Казалось, что весь город дышал одними легкими, кричал одной гигантской глоткой. Мне не раз приходилось бывать на демонстрациях и слышать, как толпа выкрикивает лозунги. — и было это в самых разных концах страны. Но этот кашмирский хорал превосходил всякое воображение и не укладывался ни в какие рамки. Это было нечто большее, чем политическое требование. Это был гимн, молитва...
Во время таких (по счастью, кратковременных) случаев, когда боевой клич толпы звучит во всю силу народных легких, он обладает невероятной силой, способной обрушить твердыни истории и географии, уничтожить разум и всякую политику. Он обладает такой силой, что даже самые закаленные из нас задумываются — пусть и ненадолго — о том, какой ад мы устроили в Кашмире, пытаясь управлять народом, инстинктивно ненавидящим нас.
Безусловно, протестующие в Индии призывают к совершенно другому виду азади – азади (свободе) от бедности, голода, кастового распределения, патриархата и репрессий. «Это не азади из Индии, это азади в Индии», — говорит Канайя Кумар, харизматичный молодой политик, которому приписывают адаптацию и пересмотр куплета для использования его при восстании в Индии в настоящее время. На улицах каждый из нас мучительно осознает, что даже толика сочувствия к кашмирской ситуации, выраженная даже случайно хотя бы одним человеком, столкнется с адским огнём национализма, который сожжет всех, а не только протестующих, до последнего человека. И если этот человек окажется мусульманином, это будет нечто в разы хуже адского огня. Потому что, когда дело доходит до мусульман, по любому поводу – от парковочных билетов до мелких преступлений – применяются абсолютно другие правила. Не на бумаге, а в жизни. Настолько глубоко нездоровой стала Индия.
Поэтому в основе этих массовых, демократических протестов по поводу антимусульманских законов о гражданстве, в этой заимствованной песне из Кашмира лежит принудительное, накапливающееся молчание по поводу преступлений, совершенных в Кашмирской долине. Этому молчанию уже десятки лет, и позор его разрушителен. Стыд должен прийти не только к индуистским националистам, не только ко всему политическому спектру Индии, но и к большинству индийского народа, включая многих из тех, которые сегодня смело выходят на улицы. Трудно держать это только лишь в своем сердце.
Но, возможно, это лишь вопрос времени – когда крик о справедливости со стороны молодежи на улицах Индии также станет требованием справедливости для кашмирцев. Возможно, именно поэтому в управляемом «Бхаратия джаната» штате Уттар-Прадеш главный министр Йоги Адитьянатх, которого многие считают новой копией министра Моди, объявил лозунг Азади предательским.
Реакция правительства на протесты была жестокой. Премьер-министр Нарендра Моди положил всему начало своим язвительным намёком об отличительном знаке. На митинге он сказал, что демонстрантов можно легко «опознать по их одежде», подразумевая, что они все были мусульманами. Это неправда. Но это способствует четкому выделению населения, которое должно быть наказано. В Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх, подобно гангстеру, открыто поклялся «отомстить». На данный момент были убиты более двадцати человек.
Несколько недель назад в государственном суде я слышала свидетельства о том, как полиция штата проникает в дома людей глубокой ночью, запугивает их и грабит. Люди говорили о том, что их держали голыми и избивали в полицейских камерах в течение нескольких дней. Они описывали, как больницы не принимали людей с тяжелыми травмами, как индуистские врачи отказывались их лечить. В видеороликах, где полиция нападает на протестующих, оскорбления против мусульман нельзя даже описать, их невнятное предубеждение страшнее, чем травмы, которые они наносят. Когда правительство открыто провоцирует часть своего собственного населения со всей имеющейся в его распоряжении властью, людям за пределами этого сообщества нелегко перенести, понять или даже поверить в порождаемый ужас.
Стоит ли говорить о том, что политическая поддержка Йоги Адитьянатха оказалась решительной и непоколебимой? Президент партии «Бхаратия джаната» (БДП) в штате Западная Бенгалия, который, кажется, одновременно завидует и гордится моделью штата Уттар-Прадеш, хвастался тем, что «наше правительство отстреливало их как собак». Профсоюзный министр кабинета Моди выступил на митинге в Дели с криками Деш ке гаддарон ка?, а толпа закричала в ответ Голи мааро саалон ка! — «Что делать с предателями нации? – Стрелять в ублюдков!»
Член парламента сказал, что, если протестующих из Шаин Ба не остановить, то они войдут в дома и «изнасилуют ваших сестер и дочерей». Это звучит довольно иронично, так как протестующие в Шаин Ба и есть преимущественно женщины. Министр внутренних дел, Амит Шах, попросил людей выбрать между Моди, «который наносил авиаудары и точечные обстрелы по Пакистану», и «людьми, поддерживающими Шаин Ба».
Моди со своей стороны заявил, что Индии понадобится всего десять дней, чтобы победить Пакистан в военном конфликте. В данном случае это может прозвучать как нелогичное заключение, хотя это не так. Это лишь хитрый способ связать протестующих с Пакистаном. Вся страна затаила дыхание, ожидая еще большего кровопролития и, возможно, даже войны.
Поскольку Индия придерживается мажоритарного индуистского национализма (вежливый термин для фашизма), многие либералы и даже коммунисты по-прежнему брезгливо используют это сочетание. При этом игнорируется факт того, что идеологи главной националистической партии страны открыто поклоняются Гитлеру и Муссолини, и что первый попал на обложку индийского школьного учебника о великих мировых лидерах, наряду с Ганди и Моди. Разногласия по поводу использования термина сводятся к тому, считаете ли вы, что фашизм стал таковым только после того, как континент был разрушен и миллионы людей были уничтожены в газовых камерах. Или вы верите, что фашизм — это идеология, которая и привела к серьезным преступлениям, за которыми последовали другие, и что те, кто подписывается на это, и являются фашистами.
Позвольте мне уделить немного времени подзаголовку моего выступления — «Художественная литература во времена фейковых новостей». Фальшивые новости, по крайней мере, столь же стары, как и художественная литература, и, конечно, оба они часто могут представлять одно и то же. Фейковые новости – это основа, строительные леса, на которые обрушивается иллюзорный гнев, который подпитывает мишуру фашизма. Основой, на которой покоятся эти леса, является сфальсифицированная история – возможно, самая старая форма фейковых новостей. Серьезные ученые обличали и уничтожали историю, разыгрываемую индуистскими националистами, избитую сказку о ложной доблести и преувеличенной жертве, в которой история превращается в мифологию, а мифология в историю. Но сказка никогда не предназначалась для чтения серьезными учеными. Она создавалась для аудитории, на которую немногие из них могут повлиять. Пока мы смеемся всласть, сказка распространяется как эпидемия и расцветает в воображении людей как злокачественная опухоль. Здесь так же есть что-то более глубокое, более тревожное, на чем я не могу остановиться, хотя обязательно упомяну. Если какое-либо из моих утверждений поразит вас, пожалуйста, знайте, что я подробно раскрыла их в книге «Доктор и Святой».
В основе индуистского национализма и культа индуистского превосходства лежит принцип варнашрама-дхарма, кастовая система или то, что в анти-кастовой традиции называется брахманваад – брахманизм. Брахманизм организует общество по вертикальной модели, основанной на предположительно небесном предопределении, градуированной шкале чистоты и скверны, правах, обязанностях и наследственных профессиях. Прямо на вершине лестницы находятся брахманы, воплощение чистоты, место упокоения всех титулов. Внизу находятся «изгнанники» — далиты, некогда известные как неприкасаемые, которые были лишены статуса человека, помещены в гетто и притеснялись невообразимыми способами на протяжении веков. Ни одна из этих категорий не является однородной, каждая разделена на собственную сложную вселенную иерархий. Принципы равенства, братства или женского общества являются проклятием для кастовой системы. Нетрудно понять, как идея о том, что некоторые люди по своей природе превосходят или уступают другим, согласно божественному предписанию, легко проскальзывает в фашистскую идею «высшей расы». Чтобы избежать тирании брахманизма на протяжении веков, миллионы далитов и людей из других подчиненных каст перешли в ислам, сикхизм и христианство.
Таким образом, политика индуистского мажоритаризма и преследования меньшинств также неразрывно связаны с кастовым вопросом. Даже сегодня каста является двигателем и организующим принципом, который управляет почти всеми аспектами современного индийского общества. И все же столь многим знаменитым писателям, историкам, философам, социологам и кинематографистам в совокупности удалось подготовить внушительный объем работ по Индии – деятельность, которая приветствуется внутри страны, а также приветствуется на международном уровне и щедро вознаграждена, и которая либо превращает касту в сноску, либо полностью вычеркивает ее как проблему. Я бы тоже назвала это сфальсифицированной историей. Великим Проектом Невидения.
Прекрасным примером этого является «Ганди», фильм сэра Ричарда Аттенборо, получивший «Оскар» и профинансированный индийским правительством. Фильм неточен до такой степени, что лжет даже о времени, проведенном Ганди в Южной Африке и его отношении к чернокожим африканцам. Чуть более тревожным является полное отсутствие доктора Бхимрао Амбедкара, который в Индии является такой же или даже более значимой фигурой, чем Ганди. Амбедкар, далит из Махараштры, был человеком, который бросил вызов Ганди в моральном, политическом и интеллектуальном смыслах. Он осудил индуизм и его кастовую дискриминацию и показал далитам путь, отказавшись от индуистской религии в пользу буддизма. Оба были необычными людьми, и конфликт между ними во многом определил наше сегодняшнее мышление.
Хотя взгляды Ганди на касту не были враждебны взглядам индусского права, но таковыми были его взгляды на место мусульман в Индии. Именно это в конечном итоге привело к его убийству бывшим членом (некоторые говорят действующим) националистической партии Индии. Тем не менее, что же она означает, эта возвышенная, серьезно сфальсифицированная мифизация Ганди и стирание Амбедкара в финансируемом правительством и Конгрессом многомиллионном пафосном фильме, который по-прежнему составляет основу для имиджа Ганди в борьбе за свободу Индии? Да, фильм был снят давным-давно, но где же корректировка – другой элемент пафоса, который, по крайней мере, попытается рассказать правду? Где стоящие фильмы о Кабире, Равидасе, Амбедкаре, Перияре, Айянкали, Пандите Рамабае, Джотибе, Савитрибае Пхуле и всех тех, кто боролся с кастой на протяжении веков? Есть индийские либералы, которые жестоко ругают британцев за то, что они исключили британский колониализм из своих учебников истории, но делают абсолютно то же самое, когда дело доходит до кастового вопроса.
В Южной Африке Ганди пытался увести индийцев-пассажиров из доминирующей касты от наемных работников угнетенной касты и афроамериканцев, которых он часто называл «кафрами» и «дикарями» — эту кампанию он поддерживал на протяжении многих лет. В 1894 году он написал в открытом письме в Законодательное собрание Натала, что индийцы и англичане «происходят из общего предка, называемого индоарийцем». Даже сегодня это является предметом тщеславия многих индусов из доминирующей касты. Им нравится думать о себе как о расе завоевателей арийского происхождения (это объясняет их одержимость белой кожей и ужас от существования темной). И все же, когда дело доходит до мусульманского вопроса, они внезапно превращаются в исконных сыновей индусской земли и называют мусульман и христиан «иностранцами».
Для наших оплачиваемых индуистских фашистов, ласково называемых Сангх Паривар (Семейный Коллектив), мусульмане являются «внутренним врагом», чья настоящая верность лежит за пределами Индии. Для многих добросердечных либералов мусульмане являются желанными гостями, но эти гости, тем не менее, обременены ожиданием хорошего поведения, которое страшно навязывать своим. Это похоже на предоставление женщинам прав, если они обещают быть хорошими – хорошими матерями, сестрами, женами и дочерьми. Даже самые прогрессивные люди с самыми благими намерениями часто противодействуют антимусульманской клевете, говоря о мусульманском патриотизме.
Многие либералы, включая и некоторых мусульман, сами описывают последних как индийцев «по собственному выбору», а не по случайности, предполагая, что они остались в Индии и не переехали в Пакистан после Раздела Британской Индии в 1947 году. Кто-то это сделал, кто-то – нет, но для многих выбора просто не было. И для обозначения индийских мусульман как людей, которые находятся в Индии «по собственному выбору», очерчен опасный круг, фальшивая родословная вокруг целого населения, что предполагает их менее естественные отношения с землей – и поэтому они с тем же успехом могут жить в другом месте. Такая ситуация напрямую ведет к бинарной системе «хороший мусульманин-плохой мусульманин» или «мусульманский патриот – мусульманин-джихад» и может непреднамеренно заманить в ловушку целое население, которое во имя спасения вынуждено всю жизнь регулярного размахивать флагом и читать Конституцию. Это также непреднамеренно поддерживает ужасающую логику индуистских националистов: у мусульман и так много родин, а у индусов — только Индия. Следствием этого, конечно же, является известная насмешка над мусульманами, а также всеми, кто бросает вызов индуистскому националистическому взгляду: «Отправляйся в Пакистан».
Пакистан, Бангладеш и Индия взаимозависимы социально, культурно, географически. Переверните логику индуистских националистов и представьте, как она подействует на десятки миллионов индусов, живущих в Бангладеш и Пакистане.
Индуистский национализм и отчуждение мусульман в Индии делают эти меньшинства чрезвычайно уязвимыми. Новый «Закон о внесении изменений в гражданство», который претендует на привлечение преследуемых немусульманских меньшинств из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, — что, как ни странно, предполагает, что никто из мусульман в этих странах не преследуется - скорее всего, подвергнет эти меньшинства еще большей опасности. За этой границей фраза: «Отправляйся в Индию!» скорее всего станет реакцией на «Отправляйся в Пакистан!»
Следствием такой дестабилизации целого народа может быть геноцид. Мы это знаем. Мы с таким уже сталкивались. Мы пережили кровопролитие 1947 года. Существует глубокое заблуждение, что нынешний режим в Индии, с его безграничной способностью быть безжалостным, в какой-то степени обеспокоен преследованием кого-либо кем-либо, включая индусов. На самом деле такое преследование, кажется, его оживляет.
Все это говорит о том, что основа современного фашизма, недопустимо сфальсифицированная история индуистского национализма, основана на более глубоком фундаменте другого, по-видимому, более приемлемого, более изощренного набора фейковых историй, которые стирают свидетельства о кастах, женщинах и целом ряде других гендеров – и как эти истории пересекаются за фасадом великого повествования о классе и капитале. Бросить вызов фашизму – значит бросить вызов всему этому.
Иногда я чувствую – возможно, корыстно, как хирург верит в хирургию – что художественная литература имеет уникальные возможности для этого, потому что обладает емкостью, свободой и широтой для удержания вселенной бесконечной сложности. Потому что каждый человек — действительно ходячий сноп идентичностей, матрешка, в которой есть одни спрятаны внутри других, и каждая может быть извлечена, каждая может бросать вызов одним и одновременно соответствовать другим «нормальным» соглашениям, согласно которым люди грубо и часто жестоко определены, обозначены и организованы. Особенно в нашем феодальном средневековом обществе в Индии, которое претендует на то, чтобы быть современным, но продолжает практиковать одну из самых жестоких форм социальной иерархии в мире.
Я не говорю здесь о художественной литературе как о разоблачении, или как об исправителе социальных неправильностей (простите за каламбур). Я также не имею в виду тот вид художественной литературы, которая является замаскированным манифестом или написана для решения определенного вопроса или на определенную тему. Я имею в виду беллетристику, которая пытается воссоздать вселенную чего-то знакомого, но затем становится очевидным то, что именно Проект Невидения стремится скрыть.
Проект Невидения работает таинственным образом. Это может даже появиться в образе соблазнительного, восхваленного аватара. Например, в моем первом романе «Бог мелочей», опубликованном более 20 лет назад, сексуальные и эмоциональные нарушения между кастовыми линиями и сложные отношения между кастой и коммунизмом являются центральными темами. Многое было сказано о лирике романа, его метафорах, структуре, понимании детского сознания. Но за исключением Кералы, где роман был очень хорошо понят и, следовательно, натолкнулся на некоторую враждебность, вопрос о касте, как правило, замалчивается или рассматривается как проблема класса. Как будто Амму и Велютха были леди Чаттерли и Оливером Меллорсом. Это не дает абсолютно никакого понимания об индийском обществе. Конечно, каста и класс в чем-то пересекаются, но это не одно и то же. И многие коммунистические партии Индии (к их собственному ужасу) только это обнаружили.
К тому времени, когда я начала писать «Министерство наивысшего счастья», положение вещей на субконтиненте стало по-настоящему тревожным. Индия и Пакистан стали ядерными державами, превратив Кашмир в возможный ядерный очаг (я боюсь, что так же, как фашизм не будет называться фашизмом, если миллионы не будут отравлены газом в концентрационных лагерях, ядерная угроза не будет воспринята всерьез, пока не станет слишком поздно). В Индии ранее защищенный экономический рынок был открыт для международного капитала. Неолиберальные экономические евангелисты и индуистские националисты въехали в город на одной лошади — пылающем желто-оранжевом коне, пятна которого на самом деле оказались знаками доллара. Результатом этого является следующее: пока все наши силы тратятся на тушение огня ненависти людей, сражающихся с людьми, наши леса и реки умирают, наши горы разрушаются, наши ледники тают, и когда индийская экономика отправилась в свободное падение, совокупное богатство 63 самых богатых людей страны превышает ежегодные бюджетные расходы населения в 1,3 миллиарда человек. И это на данный момент.
Как писать при таких обстоятельствах? Что писать?
Чаще всего ребята из моих романов учат меня, как думать и что писать. Оставляю это на них.
Вот фрагмент из второй главы «Министерства наивысшего счастья». Анжум и Саддам Хуссейн, ее друг и деловой партнер, находятся на крыше гостевого дома Джаннат. У них «ленивый» день, они пьют чай и смотрят на воздушных змеев, кружащих в небе. Анжум, которой за пятьдесят и которая уже много лет живет на кладбище, только что оспорила с молодым Саддамом тот факт, что она всегда знала, что он на самом деле не мусульманин. Саддам начинает рассказывать ей свою историю. Он родился в семье Далита Чамарса, кожевников, в деревне в Харьяне. Его родители назвали его Дайачанд. Страшное потрясение (в реальной жизни – инцидент, когда пять далитов были линчеваны индуистской толпой) заставило его сбежать из дома. Ярость и унижение заставили его отказаться от индуизма и принять ислам. Вдохновленный видеозаписью Саддама Хусейна из Ирака, на которой он встречает своих палачей с полной невозмутимостью, и которую он как источник вдохновения иногда включает на своем мобильном телефоне, Дайачанд меняет имя на «Саддам Хусейн».
Принятие Саддамом ислама необычно для нашего времени. Но только в конце прошлого года 3000 далитов в деревне в Тамил Над объявили о своем намерении принять ислам. В июне деревню потрясло убийство «за честь семьи» молодой пары, девочки-далита и мальчика «из другой касты», совершенное его братом. Однажды в декабре ночью стена, которую высшие касты ранее построили на склоне холма – отделяющая поселение далитов у подножия холма от остальной части деревни – рухнула на хижины внизу и убила 17 человек. Она было шаткая и плохо устроена, люди жаловались на такую ситуацию, но безрезультатно. Равичандран, основатель блога Dalit и канала на YouTube Dalit Camera: Un-Touchable Eyes, рассказал об этой истории и так же принял ислам. Теперь он Абдул Раис.
Для 3000 далитов перейти в ислам именно сейчас, когда политические обозреватели радостно гудят над «индуизмом» далитов и когда правительство Моди движется к лишению мусульман власти и гражданских прав, является чисто политической бомбой. Даже на основании одного этого примера, как мы можем оспорить призыв Амбедкара к своему народу об отказе от индуизма?
Но есть молодой Саддам Хуссейн из «Министерства наивысшего счастья», который по своим собственным причинам сделал это несколько лет назад. Он только начинает рассказывать Анжум свою историю. Желто-оранжевые длиннохвостые попугаи в тексте – это эвфемизм для индуистских дружинников, которые часто носят такие повязки, когда идут на дежурство:
— Ну вот, значит, нам надо было поехать в ту деревню, забрать труп, ободрать его и сделать из шкуры кожу... Дело было в 2002 году. Я тогда еще ходил в школу. Ты лучше меня знаешь, что тогда творилось... как все это выглядело. Твое несчастье произошло в феврале, а мое — в ноябре. Это было на праздник Дашэхра. По дороге мы проехали Рамлилу, где на площади были установлены огромные чучела демонов – Равана, Мегхнэда и Кумбхакарана. Эти чучела высотой были с трехэтажный дом, а вечером их должны были взорвать.
Мусульманке из Старого Дели не стоило много рассказывать об индуистском празднестве девяти ночей – Дашахра. Его отмечали ежегодно в Рамлиле, пригороде Дели, сразу за Туркменскими воротами. Каждый год чучела Равана, десягиглавого демонического царя Ланки, его брата Кумбхакарана и сына Мегхнэда вырастали до невообразимой величины и начинялись взрывчаткой. С каждым годом Рамлила, история богочеловека Рамы, царя Айодхьи, победителя Равана, история, являющаяся для индусов историей победы Божества над Злом, разыгрывалась со все большей агрессивностью и все более пышно. Спонсоры явно не жалели денег. Некоторые отважные ученые предположили, что на самом деле Рамлила была всего лишь мифологизированной историей, что злобные демоны были на самом деле темнокожими дравидами — туземными правителями, а индийские боги, победившие их и обратившие в неприкасаемых и в другие угнетаемые касты, обязанные прислуживать новым правителям, были арийскими завоевателями. В подтверждение своих предположений ученые ссылались на деревни, в которых местные жители поклонялись божествам (включая и Равана), которых в индуизме считали демонами. В господствовавшей политической обстановке простым людям не надо было быть великими учеными - пусть даже они и не могли выразить это словами, - чтобы понимать, что в этом неуклонном возвышении Попугайского рейха, независимо от того, что говорилось в писаниях и чего в них не говорилось, оранжево-желтые попугаи считали злобными демонами не просто каких-то древних туземных царей, а всех, кто не был индусом, включая — естественно! — жителей Шахджаханэбада.
Когда чучела взрывали, оглушительный грохот прокатывался по узким улочкам Старого города и мало находилось таких, кто не понимал, что все это должно было означать.
Одним из наиболее заметных лиц в протестах против Закона о внесении изменений в гражданство является молодой политик-далит, который возглавляет армию Бхим, названную в честь Бхимрао Амбедкара. Он называет себя Чандра Шехар Аазад «Равана». Он решил не просто чтить, а олицетворять Равану, побежденного «демона» – врага Рамы. Что это значит? Это смелое заявление о том, что по крайней мере некоторые люди рассматривают индуизм – не только индуистскую националистическую политическую идеологию, но и религию – как форму колониализма и жестокого подчинения. Равана находится на первых полосах газет, приводя правительство в бешенство, уподобляя их в этом мусульманской общине. Однажды поздно вечером он появился на переполненных ступенях Джами Масджида в Дели, в ночь, наполненную криками Джай Бхим! и Инкилаб Зиндабад! - «Да здравствует Бхимрао Амбедкар» и «Да здравствует революция!»
Зыбкая солидарность развивается между мусульманами, амбедкаритами и последователями других антикастских лидеров, таких как Джотиба и Савитрибай Пхуле, Сант Равидас и Бирса Мунда, а также новым поколением молодых левых, которые, в отличие от старшего поколения, ставят касту вместе с классом в центре их мировоззрения. Она все еще хрупкая, все еще полна материальных и идеологических противоречий, подозрений и обид, но это единственная надежда, которая у нас есть.
Беда в том, что эту хрупкую коалицию уничтожают еще при рождении. Сам проект фейковых новостей – его исторический отдел, а также отдел текущих событий – был превращен в корпорацию, представлен в Болливуде, транслирован по телевидению, показан в Твиттере, распылен, вооружен, разослан по WhatsApp и продолжает распространяться со скоростью света. Все это происходит вокруг нас. Это погода, которую мы терпим, и воздух, которым мы дышим. Это запах весны и зимний холод. Это то, что мы видим, слышим и в чем плаваем. Это угроза. Это обещание. Это серая колонна, которая давит на наши сердца в наших снах и в часы нашего бодрствования. Это то, на что мы реагируем и против чего пишем. И именно это делает писательство наиболее опасным делом, последствия которого не литературные призы, хорошие или плохие отзывы.
Для некоторых из нас каждое предложение, устное или письменное, настоящее или фальшивое, каждое слово, каждый знак препинания могут быть вырваны из текста, искажены и превращены в судебную повестку, заявление в полицию, нападение толпы, телевизионное линчевание обезумевшими ведущими новостей – или, как в случае с журналистом Гаури Ланкеш и многими менее известными другими – в убийство. Гаури застрелили возле ее дома в Бангалоре в сентябре 2017 года. В последнем сообщении, которое она мне прислала, была ее фотография с «Министерством наивысшего счастья» в руках.
Убийство – крайняя часть спектра. На других его частях есть угрозы, аресты, избиения и, если вы женщина – фальшивые видео и убийства персонажей – она шлюха, она пьяная! (Ничего из этого лично я не считаю оскорблением.) И не забывайте о фаворите всех времен – ее следует изнасиловать толпой! Нападки на людей с историей как моя – независимо от того, являются ли они крайне клеветническими или абсолютно правдивыми («Она не индуистка»), или физические нападения на собраниях и сценах, или юридическое преследование по сфабрикованным делам – обычно привлекают внимание верховного командования националистической партии Индии и не без помощи политработников, стремящихся к продвижению по службе. Это своего рода заявление о трудоустройстве. Потому что хорошо известно, что те, кто проявляет подобную инициативу, часто получают вознаграждение: линчеватели осыпаются почестями, обвиняемые в убийстве становятся кабинетными министрами.
В соответствии с данным настроем, за несколько дней до публикации «Министерства», достаточно известный болливудский актер, который также является членом парламента от националистической партии Индии, предложил индийской армии привязать меня к джипу и использовать в качестве живого щита в Кашмире, прямо как это недавно было сделано с его же гражданским населением. Главные телевизионные каналы часами обсуждали плюсы и минусы его предложения. Вы можете вообразить, как это происходит в умах, вдохновленно ищущих работу. Но мы не должны забывать о доброте, потому что при индийской экономике в ее текущем состоянии такая работа все чаще становится единственной доступной.
Все это ничто по сравнению с тем, что переживают миллионы людей в Индии. Я упоминаю об этом только для того, чтобы вслух подумать о влиянии этой непрекращающейся угрозы на писателей и их творчество. Конечно, каждый из нас реагирует по-своему. Говоря за себя, как только давление нарастает, а окна закрываются одно за другим, кажется, что каждая клетка моего пишущего мозга хочет снова открыть их. Это ограничивает авторов или открывает им перспективы? Затачивает или тупит их?
Я полагаю, что большинство людей считают, что это ограничит кругозор и воображение писателя, украдет те моменты близости и созерцания, без которых литературный текст не будет иметь глубокого значения. Я часто ловила себя на мысли о том, что если бы меня заключили в тюрьму или загнали в подполье, освободило бы это мой слог? Будет ли то, что я пишу, проще, возможно, лиричнее и свободнее? Возможно. Но сейчас, когда мы пытаемся держать окна открытыми, я считаю, что наше освобождение – в переговорах. Надежда заключается в текстах, которые могут вместить и сохранить нашу запутанность, нашу сложность и нашу сплоченность против натиска ужасающих, стремительных упрощений фашизма. Когда они катятся к нам, ускоряясь на своем прямом, гладком шоссе, мы приветствуем их своим ульем, нашим лабиринтом. Мы сохраняем наш сложный мир живым в нашем тексте, со всеми обнаженными швами.
После 20 лет написания художественной и научной литературы, которая отслеживает рост индуистского национализма, после многих лет чтения о взлете и падении европейского фашизма, я начала задаваться вопросом, почему фашизм – хотя он и везде проявляется по-разному – так узнаваем в историях и культурах. Узнаваемы не только фашисты: сильный человек, идеологическая армия, убогие мечты об арийском превосходстве, дегуманизация и сосредоточение в гетто «внутреннего врага», массивная и совершенно безжалостная пропагандистская машина, атаки и убийства под фальшивым флагом, раболепные бизнесмены и кинозвезды, нападения на университеты, страх перед интеллектуалами, угроза лагерей для заключенных и разожжённые ненавистью зомби, которые поют восточный эквивалент «Хайль! Хайль! Хайль!»
Это также и остальные – измученная, ссорящаяся оппозиция, тщеславные, придирчивые левые, двусмысленные либералы, которые годами строили дорогу, которая привела к текущей ситуации и теперь ведут себя как шокированные, праведные кролики, которые и представить не могли, что являются важным компонентом блюда «тушеный кролик», которое всегда было в меню. И, конечно же, волки, которые игнорировали совет приличных людей об умеренности и стягивались в пустыню непрестанно, бесполезно выть (если они женщины, то «пронзительно» и «истерически») на ужасающую, уродливую луну. Нас всех здесь легко узнать.
Итак, в конце концов, является ли фашизм чувством, подобно гневу, страху или любви, которое проявляется в разных культурах? Разве страна впадает в фашизм подобно тому, как человек теряет рассудок от любви? Или, точнее, от ненависти? Индия потеряла рассудок от ненависти? Потому что, действительно, самое ощутимое чувство в воздухе – это варварская ненависть, которую нынешний режим и его сторонники проявляют к определенной части населения. В равной степени ощутима любовь, которая выросла, чтобы противостоять этому. Вы можете увидеть это в глазах людей, услышать это в песне и речи протестующих. Это битва тех, кто умеет думать против тех, кто умеет ненавидеть. Битва влюбленных против ненавистников. Это неравное сражение, потому что любовь остается уязвимой на улице. Ненависть тоже на улице, но она вооружена до зубов и защищена всеми государственными машинами.
Насилие в штате Уттар-Прадеш при Адитьянатхе и рядом не стоит с уровнем насилия при антимусульманских погромах в Гуджарате в 2002 году, когда его главным министром был Нарендра Моди. Уттар-Прадеш все еще в стадии разработки, Адитьянатх, в отличие от Моди, все еще остается главным министром штата. Предвыборная кампания 2017 года, которая привела его к власти, стала известна как «Кабристан против Шамшана». Воодушевление БДП, спровоцированное самим Моди, было связано с противопоставлением мусульманских кладбищ индуистским кремационным площадкам и обвинением оппозиции в «умиротворении» мусульман путем развития первого, а не второго. И эта одержимость оппозицией «похороны vs. кремация» пускает корни.
Бабу Баджранги, один из активных участников погромов 2002 года в Гуджарате, был снят на камеру хваставшегося своими поступками и близостью к Моди, прямо во время спецоперации сотрудником журнала Tehelka: «Мы не пощадили ни одного мусульманина. мы поджигаем все, поджигаем их и убиваем ... взломали, сожгли ... потому что эти ублюдки говорят, что не хотят кремироваться, они этого боятся». Записи все еще доступны в интернете.
Через несколько лет после кровавой расправы Бабу Баджранги был осужден за убийство 97 мусульман в районе Народа Патия. Он провел несколько лет в тюрьме, но сейчас выпущен под залог из-за проблем со здоровьем, как и другие массовые убийцы. В целом при погромах более 2000 человек были убиты, расчленены, изнасилованы и сожжены заживо, а более 150 000 изгнаны из своих домов. Всего несколько дней назад, 28 января 2020 года, Верховный суд выпустил под залог 14 человек, осужденных за убийство 23 мусульман во время погромов в Гуджарате. Главный судья попросил правительство найти им полезную «социальную и духовную работу». Трудность заключается в том, что для многих индуистских фашистов убийство мусульман таковым и считается.
После погромов 2002 года популярность Моди возросла. Когда в 2014 году он был приведен к присяге в качестве премьер-министра, многие либералы – писатели, журналисты и общественные интеллектуалы – в восторге приветствовали его как воплощение надежды на новую Индию. Многие сейчас глубоко разочарованы, но их разочарование началось только после 2014 года, так как прежде чем ставить под сомнение поступки Моди, нужно задать вопросы себе. Таким Гуджарат 2002 года быстро стирается из общественной памяти. Этого не должно быть. Он заслуживает места в истории, а также в литературе. Анджум подтверждает это.
В «Министерстве» Анджум была поймана толпой в Гуджарате. Она оказалась там со старым другом своего отца, Закиром Мианом, который зарабатывал на жизнь в уличном киоске в Старом Дели, делая свадебные гирлянды из маленьких банкнот, сложенных в птичек. Они вдвоем отправились в небольшое паломничество к святыне поэта Вали Дахани. После того, как они не вернулись, даже спустя недели после погромов, сын Закира Миана отправляется на поиски своего отца. Он находит Анжум в лагере беженцев – вдвойне травмированную тем, что ей приходится жить в мужском отделении. Она возвращается с ним домой, но оказывается не в состоянии вести прежнюю жизнь. Она не может продолжать жить в Кхвабгахе, Доме Мечты в Старом Дели, где она годами жила с приемной семьей таких же душ, как и она, и все они вышли из «Дунии» – реального мира. Она не может ужиться с Устадом Кульсум Би, суровой главой Кхвабгаха. Не может быть хорошей матерью для приемной дочери Зайнаб. Итак, Анджум собирает вещи и переезжает на соседнее кладбище, где похоронена ее семья:
Любители героина в северной части кладбища – тени на фоне ночных теней – неслышно кучковались на горах больничных отбросов в море старых бинтов и использованных шприцев и, казалось, вовсе не замечали ее присутствия. В южном конце кладбища вокруг костров сидели группки бездомных, поджаривая на огне свое скудное пропитание. Бесприютные псы, куда более здоровые, нежели люди, усевшись на почтительном расстоянии от бродяг, вежливо ожидали остатков нищего пиршества.
В таком окружении Анджум – в иной ситуации – чувствовала бы себя неуютно, инстинктивно ощущая опасность, но грызущая безутешная скорбь хранила ее. Освободившись от необходимости соблюдать какие-то социальные правила, безмерная скорбь, словно крепость с ее фортами, башнями, стенами, мрачными подземельями, обступила Анджум со всех сторон с рокотом, напоминавшим приближающийся рев разьяренной толпы. Задыхаясь, она, словно отчаявшийся беглец, петляла по золоченым палатам и залам крепости, пытаясь спрятаться от самой себя. Она старалась разогнать скопище желтооранжевых людей с желто-оранжевым оскалом. Эти люди преследовали ее со своими трезубцами и насаженными на них младенцами и не желали рассеиваться. Анджум пыталась прикрыть дверь, за которой, свернувшись комочком, посреди улицы лежал Закир Миан – маленький и аккуратный, как птичка, несущая серебряные яйца. Но Закир не желал лежать, он тоже преследовал Анджум, скорчившийся, лежащий на окровавленном ковре-самолете. Анджум изо всех сил старалась забыть его взгляд, каким он смотрел на нее до того, как в них погас свет жизни. Но он не отпускал ее.
Она хотела сказать ему, что храбро отбивалась, когда они тащили ее прочь от его безжизненного тела.
Но она очень хорошо знала, что не сопротивлялась.
Анджум старалась забыть свое знание о том, что они сделали с другими, стереть его – знание о том, как они сгибали мужчин и разгибали женщин. Как они разрывали их, выдергивая руки и ноги, и швыряли их в огонь.
Но она знала, очень хорошо знала, что она все знала.
Они.
Они, кто это?
Ньютонианская армия, воинство, стремившееся воплотить закон действия и противодействия. Тридцать тысяч желто-оранжевых попугаев со стальными когтями и окровавленными клювами, дружно орущие:
Муссольмон ко эк хи стхон! Кабристан йя Покистан!
Одно из двух для мусульман! Могила или Пакистан!
Анджум, притворившись мертвой, распростерлась на теле Закира Миана. Фальшивый труп фальшивой женщины. Но попугаи, несмотря на то что были – или притворялись таковыми – чистыми вегетарианцами (это было первым условием приема в их ряды), прислушались к ее дыханию со сноровкой и чутьем кровожадной ищейки. Естественно, они поняли, что она жива, и поняли, кто она. Тридцать тысяч голосов, напомнив о любимом присловье Бирбаль, завопили:
Ай Хай! Саали ронди хиджра! Шлюха-хиджра и сестра шлюхи! Мусульманская шлюха-хиджра!
Тут вдруг раздался громкий голос переполошившегося попугая:
Наби яар, мат маро, хиджрон ка маарно апсхагун хота хай!
Не убивай ее, брат! Убийство хиджры приносит несчастье.
Несчастье!
Ничто не могло так напугать этих убийц, как будущее несчастье или невезение. Действительно, пальцы этих убийц сжимали рукоятки мечей и сверкающих кинжалов, инкрустированные толстыми золотыми кольцами, отводящими порчу и сглаз. Ничего, что стальная арматура, которой эти звери забивали насмерть людей, была обвита от дурного глаза цветными нитками - обвита любящими и заботливыми матерями. Приняв такие предосторожности от сглаза, стоило ли так его бояться?
Они склонились над ней и заставили громко, нараспев декламировать свой клич:
Бхарат Мата Ки Джай! Ванде Мотором!
Она декламировала, плача, дрожа всем телом, испытывая унижение, какого не испытывала даже в самых кошмарных снах.
Победа Матери Индии! Поклоняюсь тебе, мать!
Они оставили ее в живых. Они не убили ее. Они вообще не причинили ей никакого вреда. Ее не согнули и не разогнули. Ее одну из всех. Теперь удача должна была благословить их.
Удача мясников.
Теперь это будет с ней всю жизнь. Чем дольше будет она жить, тем больше удачи она принесет им.
Она снова попыталась стереть это знание, мечась по своему форту. Но все было тщетно. Она очень хорошо знала, что она очень хорошо знала, что она очень хорошо знала.
Главный министр Гуджарата с холодными, как у змеи, глазами и пятном киновари на лбу должен был выиграть следующие выборы. Даже после того, как поэт-премьер-министр потерпел неудачу в центре, этот выиграл выборы в Гуджарате. Некоторые считали его ответственным за массовые убийства, но избиратели называли его «Гуджарат ка Лалла» – Любимцем Гуджарата («Министерство наивысшего счастья»).
Анжум живет на кладбище уже многие годы, сначала как «разоренный, дикий призрак, преследующий каждого жителя и духа, устраивающий засаду семьям погибших, которые пришли похоронить своих мертвецов с таким диким, необузданным горем, которое начисто обнажает их собственное». Постепенно она выздоравливает и начинает строить себе дом, где в каждой комнате оказывается могила. В конечном итоге это превращается в гостевой дом «Джаннат». Когда муниципальные власти заявляют, что жить на кладбище незаконно и угрожают снести дом, она говорит им, что там не живет, а умирает. Гостевой дом «Джаннат» расцветает, когда туда приезжает Саддам Хуссейн – бывший санитар морга, сторож и ныне мелкий предприниматель – и остается жить там со своей лошадью Паяль. И когда там же появляется старый друг Анжум, слепой имам Зияуддин, предприятие превращается в «Джаннат: гостевой дом и ритуальные услуги». Гостевые комнаты и ритуальные услуги предоставляются исключительно по желанию генерального директора. Эти желания касаются людей и животных, живых и мертвых, для которых в реальном мире – Дунии – места нет.
Иногда я чувствую, что мой мир тоже очень примитивно делится на два типа людей: тех, кого Анджум согласится разместить в ее гостевом доме или кладбище, и тех, кого она там видеть не захочет.
Анджум знает, что созданное ею место – не просто физическое убежище, не просто заурядный дом бедняка. Потому что вокруг нее собираются не только бедные и трудолюбивые. Вот она, объясняющая Саддаму Хусейну значение места, которое они называют своим домом. Биру, к которой она обращается – это собака, спасенная с улицы:
– Когда ты падаешь, перейдя грань, как все мы, считая и нашего Биру, – снова заговорила Анджум, – ты уже не можешь остановить падение. Падая, ты будешь хвататься за других падающих людей. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше. Место, где мы живем, место, ставшее нашим домом – это место падших людей. Здесь нет хакикат. Арре, даже мы сами не вполне реальны. На самом деле нас нет.
Люди приходят и уходят, живут и умирают в Месте Падающих Людей. Между могил прорастает жизнь. На кладбище Анжум есть огород и даже небольшой бассейн для бедняков. Несмотря на то, что воды в нем нет, местные жители им гордятся и приводят своих детей посмотреть. На похоронах и свадьбах бормочут и поют всевозможные молитвы, обмениваются всевозможными обетами. Они включают чтение «Исламской Фатехи», изложение шекспировского «Генриха V» и пение «Интернационала» в переводе на хинди.
Однажды доктор Азад Бхартия, «Свободный индиец», неутомимый памфлетист, голодовщик и верный друг «Падающих людей», читает Анджум длинное письмо, переводя для нее на урду. Письмо принадлежит товарищу Маасе Ревати, биологической матери ребенка, которого Анжум нашла брошенным в месте, называемом Джантар-Мантар – там, где собираются протестующие и голодающие в Дели и где собственно дом доктора Азада Бхартии (он живет на тротуаре семнадцать лет). Анджум удочеряет ребенка и приводит ее на кладбище. В письме, которое читает доктор Бхаратия, рассказывается о жизни матери – партизанского борца в лесах центральной Индии, об обстоятельствах, которые привели к рождению ее ребенка, и о причинах, которые заставили ее отказаться от младенца. Сначала Анджум, которая мечтает стать матерью, настроена враждебно к женщине, которая бросила своего ребенка. Но постепенно она начинает слушать историю этой далекой женщины, чьи заботы так сильно отличаются от ее собственных, но чье горе столь же дикое и столь же сложное. Письмо заканчивается Лал Салам, красным приветствием:
«Лал Салам Алейкум» – таков был искренний и инстинктивный ответ Анджум на конец письма. Эта фраза могла бы стать началом нового политического движения, но Анджум произнесла это как «Аминь» после прослушивания трогательной проповеди.
Вот тогда он и возник между Анджум, Саддамом и их спутниками – политический договор о сегодняшнем восстании, провозглашенный на кладбище Анджум. Джай Бхим. Инкилаб Зиндабад. Лал Салам Алейкум. Но это только душа революции. Не сама революция. Потому что на кладбище Анжум нет ничего, из чего бы делались революции – даже хорошие. Там нет флагов. Здесь нет развевающихся флагов, никаких обещаний. Нет лозунгов. Нет жестких границ между мужчиной и женщиной, человеком и животным, «правильной» и другой нацией или даже жизнью и смертью.
Главным божеством в гостевом доме Джаннат является Хазрат Сармад, который благословил Анджум в ее младенческом возрасте. Хазрат Сармад – еврей-армянин, который путешествовал из Персии в Дели триста лет назад. Он перешел из иуадаизма в ислам, а затем отказался от ортодоксального ислама во имя любви. Он жил голым на улицах Старого Дели, читая стихи о любви, пока не был обезглавлен на ступенях Соборной мечети Дели императором Моголов Аурангзебом. Гробница Сармада как зажатое блюдце у чистого лица Соборной Мечети. Для Анджум и тех, кто ищет у нее прибежища, Сармад – хазрат наивысшего счастья, святой безутешных и утешитель неприкаянных, кощунник среди верующих и верующий среди кощунников. Он – низверженный ангел, который следит за такими же подопечными, держит двери между мирами открытыми (пусть и незаконно) и никогда не позволяет кругу замкнуться. И вот из-за этой нелегальной трещины, этого незамкнутого круга Кашмир дрейфует на кладбище Анджум. И начинается запретный разговор.
Кашмир, земля живых мертвецов и говорящих могил: городские кладбища, деревенские кладбища, братские могилы, могилы без опознавательных знаков, двухэтажные могилы. Кашмир, чью правду можно рассказать только в художественной литературе, потому что только там можно рассказать о воздухе, настолько густом от страха и потери, с гордостью и безумной смелостью и с невообразимой жестокостью. Только художественная литература может попытаться описать обменные процессы, которые происходят в таких условиях. Потому что история Кашмира – это не только история о войне и пытках, фальсификациях выборов и нарушениях прав человека. Это история о любви и поэзии тоже. Это не может быть сведено к форме новостей.
Вот Муса Йесви, архитектор и одержимый рисовальщик лошадей. Муса, который входит и выходит с кладбища Анджум через нелегальный портал низверженного ангела. Муса, который изо всех сил пытается удержать некоторое подобие здравомыслия, поскольку он неумолимо втягивается в водоворот грязной войны Кашмира, и в конечном счете исчезает в его темном сердце. Как и многие молодые люди его поколения, обстоятельства загоняют его в подполье, где он превращается во многих, принимает множество личностей, посещает собственные похороны и почти не знает, кто он на самом деле. В письме к мисс Джебин, его убитой во время обстрела силами безопасности безоружной процессии пятилетней дочери, Муса описывает свои собственные похороны. Он рассказывает ей о ленивце, спустившемся с горы, о хангуле, который наблюдал из леса, о воздушных змеях, которые кружили в небе, наблюдая за всем, и о ста тысячах скорбящих, которые покрыли землю как снег. «Что я точно знаю, так это только то, - пишет он, - что в нашем Кашмире мертвые будут жить вечно; а живые – это мертвые люди, которые притворяются». Вот описание похорон мисс Джебин:
Мисс Джебин и ее мать были похоронены с пятнадцатью другими жертвами, доведя их общее число до семнадцати.
Ко времени их похорон Мазар э Шохадда было еще сравнительно новым кладбищем, но уже изрядно «населенным». Тем не менее организационный комитет внимательно следил за происходящим с самого начала восстания и весьма реалистично представлял, к чему все клонится. Комитет тщательно планировал расположение участков под захоронения, эффективно используя имевшееся в наличии пространство. Все понимали, как важно хоронить мучеников на больших, коллективных кладбищах, а не оставлять их (многие тысячи) гнить в горах, лесах, вблизи от армейских лагерей и пыточных центров, которые росли по всей Кашмирской долине, как грибы после дождя. Когда началась настоящая война и оккупация стала более жестокой, для простых людей единение вокруг могил мучеников стало само по себе актом сопротивления…
Когда тела были преданы земле, толпа начала вполголоса молиться.
Раббиш рахли садри; Ва яссир ли амри
Вахлул укдатан мин лисаани; Яфкаху кавли
Господь мой! Освободи мой ум. Сними бремя мое,
Развяжи мой язык, чтобы было понятно, что я говорю.Маленькие дети, едва достававшие головами до животов матерей, закутанные по самые глаза их шарфами, едва способные дышать, говорили о своем: «Я дам тебе шесть обойм с патронами, если ты дашь мне неразорвавшуюся гранату».
К небу взметнулся одинокий женский голос, неестественно высокий, выражавший глубинную, дикую боль, пронизавшую его.
Ро рахи хай йех замин! Ро раха хай асмаан…
К женщине присоединились другие:
Эта земля вопиет и плачет! И небеса вторят ей…
Птицы ненадолго умолкли, слушая пение людей и косясь на них своими глазами бусинами. Бродячие собаки вольготно слонялись между постами, сохраняя ледяное спокойствие. Коршуны и грифы парили в вышине в теплых воздушных потоках, лениво пересекая в обе стороны линию контрольно пропускных пунктов – только чтобы подразнить горстку собравшихся внизу людей.
Нельзя предотвратить этот разговор между кладбищем Анджум и мисс Джебин, запрещенный в Дунии, реальном мире, в нашем общем Кхвабгахе, нашем Доме снов.
Как только я написала эту последнюю строчку, ко мне подошел тихий маленький семилетний парнишка по имени Эстаппин, контрабандист из другого моего романа «Бог мелочей», и прошептал мне на ухо: «Если ты ешь рыбу во сне, то это считается? Это значит, что ты ел рыбу?»
Но если этот разговор между кладбищами не разрешен (не может или не будет) в Дунии, то, возможно, к приведенному ниже следует отнестись серьезно.
Муса и Гарсон Хобарт, офицер разведки, теперь на пенсии, встречаются спустя десятилетия. Когда Муса уходит, Хобарт идет с ним на улицу, чтобы проводить его. Он хочет задать ему последний вопрос, который его мучил, и он знает, что как только Муса исчезнет, он никогда не узнает ответа. Речь идет о майоре Амрике Сингхе – печально известном армейском офицере, совершившем серию убийств в Кашмире в 1990-х годах, одним из которых, как считается, был убийство самого Мусы в тюрьме. Когда против него разразились огромные протесты, Амрик Сингх исчез из Кашмира без следа. Хобарт знает, что он был тайно похищен индийским правительством и сослан сначала в Канаду, откуда бежал в Соединенные Штаты. Он был обнаружен через несколько лет, когда в Калифорнии всплыла информация о его аресте за домашнее насилие.
Несколько месяцев спустя Сингх и его семья были найдены мертвыми. Похоже, он застрелил себя, свою жену и детей в их маленьком загородном доме. Хобарт, чье прошлое и история женщины, которую он любит, неразрывно связаны с Амриком Сингхом, не доверяет официальной версии. Основываясь на клочках доказательств и некоторых документах, с которыми он сталкивался, он считает, что и Кашмир, и Муса в частности имели какое-то отношение к трагическому и ужасному концу Амрика Сингха:
– Это ты убил Амрика Сингха?
– Нет, – он посмотрел на меня своими чайно-зелеными глазами. – Я его не убивал.
Он на мгновение умолк, и по его взгляду я понял, что он оценивает меня, думает, говорить дальше или нет. Я сказал Мусе, что видел прошение о предоставлении убежища в США и видел посадочные талоны с именем, встречающимся в одном из его фальшивых паспортов. Мало того, я ознакомился с журналом регистрации клиентов в конторе проката автомобилей в Кловисе. Даты совпадали, и я понимал, что Муса имеет отношение к этой смерти, но не знал, какое именно.
– Это простое любопытство, – сказал я. – Не имеет никакого значения, ты это сделал или нет. Он заслуживал смерти.
– Я его не убивал. Он застрелился сам. Но это мы заставили его покончить с собой.
Я не понял, что, черт возьми, он имеет в виду.
– Я поехал в США не для того, чтобы следить за ним. Я уже был там по совершенно другим делам, когда обнаружил в газете заметку о том, что его арестовали за избиение жены. Адрес его проживания попал в прессу. Я искал его много лет. У меня с ним свои счеты, как и у многих из нас. Так я приехал в Кловис, навел справки и нашел его в гараже автомастерской, куда он пришел забирать свой грузовик после ремонта. Он разительно переменился и был не похож на того убийцу, которого мы все знали, убийцу Джалиба Кадри и многих других. Теперь у него не было той инфраструктуры безнаказанности, в которой он привык действовать. Он был испуган и сломлен. Мне даже стало его жалко. Я уверил его в том, что мы не причиним ему вреда, но и не дадим забыть о содеянном.
Все это Муса рассказывал мне на улице, когда я вышел проводить его.
– Другие кашмирцы тоже прочли эту новость. Они стали приезжать в Кловис, чтобы посмотреть, как живет кашмирский мясник. Среди этих кашмирцев были журналисты, писатели, фотографы, адвокаты… и простые люди. Они появлялись у него на работе, подходили к его дому, сопровождали его в магазинах и на улице, приходили и в школу, где учились его дети. Каждый день. Он был вынужден смотреть на нас, видеть нас – каждый день. Вынужден вспоминать. Должно быть, это свело его с ума. И заставило самоликвидироваться. Так что в ответ на твой вопрос могу сказать: нет, я его не убивал.
То, что Муса сказал после этого, стоя на фоне ворот, на которых огромная, как людоед, медицинская сестра делала ребенку прививку от полиомиелита, было похоже на ушат холодной воды. Это прозвучало еще страшнее, потому что было сказано небрежным, непринужденным, дружелюбным тоном, с почти счастливой улыбкой, как будто это была невинная шутка.
– Однажды Кашмир заставит Индию покончить с собой точно таким же способом. Вы можете всех нас ослепить пулями из пневматических ружей. Но у вас самих останутся глаза, и вы сможете видеть, что вы натворили. Вы нас не разрушаете. Вы нас созидаете, а разрушаете вы себя. Худа хафиз, Гарсон бхай.
Разрушение – оно началось.
И да, если во сне вы ели рыбу, это значит, что вы ели рыбу.
Из-за продолжающегося спора между Советом попечителей Тринити-колледжа и Университетом Кембриджского университета, Союзом колледжей, а также в защиту просьбы Союза эта лекция не была прочитана лично.
Авторы из этой статьи
Комментарии
Читайте также
-

-

-

-

-

-

-

-

-


28 июня 2020 г.
292
Видал всю работу и быт я в гробу - смотрю вот кино с точкой красной на лбу!!!)))
-




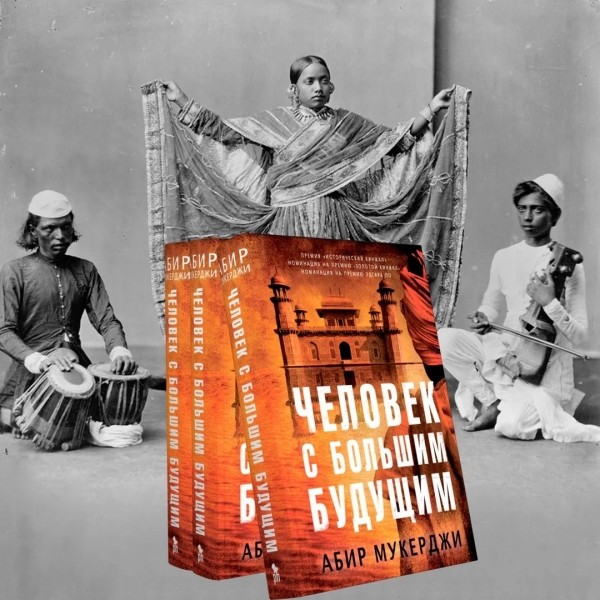







Комментариев пока нет — ваш может стать первым
Поделитесь мнением с другими читателями!