6 апреля 2019 г., 17:20
14K
Джон Уильямс и канон, который мог бы быть
Через четверть века после смерти его суровый, бесстыдный шедевр был признан «совершенным романом». Принадлежит ли он к более обширному роду забытой современной литературы?
Автор: Лео Робсон
В 1973 году судьи Национальной книжной премии за художественную литературу, оказавшись в тупике, решили разделить премию. В средствах массовой информации этот вердикт был представлен как отражение более широкого раскола в американской литературе между экспериментальным и традиционным. Джон Барт, награжденный за «Химеру» – трилогию новелл, в которых занудно переделаны древние повествования, – был ведущим представителем постмодернистской фантастики. Два его союзника в этом деле, Лесли Фидлер – первый критик, использовавший слово «постмодернизм» в литературной связи, – и Уильям Гасс были членами жюри в том году. Напротив, , другой победитель, был ученым/литературоведом/профессором Денверского университета и редактором антологии поэм эпохи Возрождения – с тонким, мало заметным литературным произведением. Его победный роман «Август», тщательно прописанная история о римском императоре, выявил писателя, противоречащего господствующей моде. Но что именно он представлял?
Хотя Уильямс не отказался бы от «традиционного» ярлыка – он считал движение Барта-Гаса «тупиком», – традиция, к которой он принадлежал, была ближе к культу. Около двух десятилетий назад Уильямс был преобразован в теорию литературы, возникшую в результате работы поэта и полемиста из Стэнфорда Ивора Уинтерса. Подобно многочисленным приверженцам до и после – американским поэтам-критикам Дж. В. Каннингему и Р. П. Блэкмуру, английским поэтам-критикам Тому Ганну и Дональду Дэви, а также будущим американским поэтам-лауреатам Роберту Хассу, Роберту Пински, Филиппу Левину и Дональду Холлу, – Уильямс был очарован авторитетным тоном Уинтерса и рядом абсолютистских убеждений, касающихся не только англоязычной поэзии, но и литературы в целом. Модная, тяжеловесная метафизика или верность более строгому и прямому стандарту – это не было разницей, которую можно было разделить.
В течение почти двадцати лет после своей смерти, в 1994 году, Уильямс казался обреченным на почти забвение – опущенным из каждого списка, популярного или научного, канонического или хипстерско-ревизионистского. Если у него и была загробная жизнь, то только как у писателя или букиниста. Что, в конечном итоге, привело его к посмертной славе, так это повторное открытие его книги 1965 года «Стоунер» , небольшого, скромно написанного университетского романа, который следует за академиком среднего ранга от колыбели до смертного одра. Поначалу, когда летом 2006 года New York Review Books Classics переиздала книгу после лоббирования со стороны Манхэттенского книготорговца, волнений было немного. Но позднее, в том же году, Анна Гавальда, популярный французский романист, прочитала в «Guardian» статью, в которой писатель Колум Маккэн назвал его «одним из великих забытых романов прошлого века». Гавальда прочитала книгу и попросила издателя обеспечить ей права на перевод, и это решение привлекло внимание издателей по всей Европе. С 2011 года «Стоунер» стал бестселлером во Франции, Нидерландах, Италии, Израиле и Великобритании. Многие выдающиеся писатели, включая Брета Истона Эллиса и Иэна Макьюэна, превозносили ее как «прекрасную» и даже «совершенную», а лондонская «Sunday Times» называла «величайшим романом, которого вы никогда не читали». В конце 2013 года британская сеть книжных магазинов Waterstones назвала книгой года роман, который был отвергнут британским издателем Уильямса Виктором Голланцем и впервые появился в Великобритании через восемь лет после своего дебюта в США, на фалдах «Августа».
Одним из результатов запоздалого бестселлера Уильямса является то, что он теперь привлекает внимание специалистов, в котором ему было отказано на протяжении всей его карьеры. Марк Асквит в своем проницательном исследовании «Чтение романов Джона Уильямса» (Лексингтон) и Чарльз Шилдс в своей захватывающей короткой биографии «Человек, написавший идеальный роман» (Техас) совершили набег на бумаги Уильямса в Университете Арканзаса, где он читал лекции после выхода на пенсию. Теперь вырисовывается более ясная картина романиста, стремящегося проложить эксцентричный курс.
Уильямс родился в 1922 году в Кларксвилле, штат Техас. Будучи подростком, он позаимствовал так много книг из своей школьной библиотеки, что о нем написали в местной газете. В 1942 году записался в военно-воздушные силы. Три года спустя, вернувшись в США, он написал несколько страниц романа, которым занимался в свободное от работы время в палатке в Калькутте. Страницы «Ничего, кроме ночи» были опубликованы в 1948 году денверским издательством Swallow Press, а теперь переизданы классикой NYRB, завершив набор названий Уильямса.
В романе рассказывается об одном дне из жизни Артура Максли, беспокойного бездельника в безымянном городе, который тратит свое время на мучительные размышления о том, стоит ли отправиться в местный парк, пообедать с другом-гомосексуалистом, который смущает его – и пытается уклониться от травмирующих воспоминаний, которые были вызваны новостями о возвращении его отца из деловой поездки. Позже Уильямс использует любую возможность, чтобы отвергнуть свой первый роман, и вы можете понять, почему: он слабо написан и недостаточен в повествовательной технике. В своем единственном опубликованном эссе о другом романе, появившемся в 1968 году, Уильямс возражал против «почти механического чередования» повествования и мечтаний Генри Миллера. К концу «Ничего, кроме ночи» Артур переживает долгое, болезненное воспоминание. Когда девушка спрашивает его, что случилось, он отвечает: «Ничего не случилось… Я просто вспомнил кое-что, на минутку».
Но Уильямс не отрекся от романа просто как от подростка. Он пришел к выводу, что это нарушение всего, чем, по его мнению, должен быть роман. Это во многом было связано с тем, как изменились его принципы и приоритеты после того, как издатель и академик Алан Своллоу, приняв рукопись Уильямса, убедил его записаться в качестве студента G. I. Bill в Университете Денвера, где Своллоу преподавал на английском факультете. Своллоу был ярым учеником Ивора Уинтерса – он окрестил его «мудрецом Пало-Альто» и опубликовал свои книги в «Swallow Press» – и вскоре привлек Уильямса к этому делу. Уинтерс считал, что вершина литературного творчества пришла и ушла в эпоху Возрождения, когда «более жесткие поэты», такие как Фульке Гревилл, писали с чувством рационального порядка в «простом стиле». В начале восемнадцатого века произошел решающий перелом – начало того, что Уинтерс называл романтизмом, определяя его как забытую идею о том, что «литература – это главным образом или даже чисто эмоциональное переживание». В самом полном изложении взглядов Уинтерса «В защиту разума» (1947), сборнике его ранних критических книг, он выступал против того, что называл «ошибкой подражательной формы» – тенденция выражать распад или неуверенность через язык, который сам проявляет эти качества. «Разумной» альтернативой, писал Уинтерс, было сделать понятное заявление «относительно состояния неопределенности». Уинтерс считал, что «сознательный автор» и стремление к «формальному совершенству» стали желательной альтернативой «фрагментарной и неуправляемой мысли персонажа, когда он идет по улице, или сидит в баре, или видит сны по ночам».
По мнению Уинтерса, подражательная ошибка была близка к национальному литературному пороку. В своих исследованиях «Американского обскурантизма», собранных в «Проклятии Мауле» (1938), он очертил выбор между стремлением к ясности и принятием дикости. Этот аргумент предвосхитил все еще известное вмешательство Филиппа Рава в обзор Кеньона в следующем году. Выделили «два полярных типа», соответствующих «раздвоению личности» в американской литературе: «бледное лицо» и «краснокожий» (сегодня терминология раздражает, как некоторые футбольные талисманы). В своей схеме бледнолицый рассматривает жизнь как дисциплину, а свою страну как источник «бесконечной двусмысленности», в то время как краснокожий рассматривает жизнь как «возможность» и упивается «американизмом». Многие из писателей, которыми восхищался Уинтерс, попали в равийский пантеон бледнолицых – Готорн, Мелвилл, Эмили Дикинсон, Генри Джеймс (Уинтерс также выразил сильное пристрастие к творчеству Эдит Уортон).
В XX веке пороки американской литературы совпали с пороками международного модернизма. Примерами Уинтерса, когда он обсуждал ошибочность подражательной формы, были Уолт Уитмен, последний краснокожий, и Джеймс Джойс. В одной из ранних формулировок – письме Р. П. Блэкмуру в 1933 году – он ссылался на «уитмановский трюк написания свободных стихов о свободной стране или джойсовский трюк сойти с ума, чтобы выразить безумие». Он боролся с приливом. Рав, несмотря на свою бледную преданность, представлял убедительную картину господства краснокожих («Драйзер, Льюис, Андерсон, Фолкнер, Вулф, Сэндберг, Хемингуэй»), и никто не мог отрицать мощь современного движения. Читателю, не любившему формальной распущенности – будь то под видом бегущей строки или потока сознания, во имя Америки или авангарда, – почти ничего не оставалось. Среди поэтов, работавших в сороковые годы, протеже Уинтерса Дж.В. Каннингем был едва ли не единственным, кто добился успеха; из американских писателей-фантастов Уинтерс восхищался своей женой Джанет Льюис и своим другом Гленуэем Уэскоттом.
Первый роман Уильямса нельзя обвинить в подражании. Как бы Артур ни волновался, ничто не нарушает синтаксиса романа и не раздувает его абзацев. С самого начала стиль Уильямса был скромным. Но Уильямс нашел в своей ученической работе и другие способы быть, как он позднее выразился, «цветистым, многословным и переутомленным». Главным героем романа был Конрад Эйкен, которого Уинтерс высмеивал как автора «ночных грез» о людях, которые «совершают убийства под соответствующую музыку, падают с небоскребов или бродят в свете фонарей под дождем». Артур мечется между самоанализом и уклонением, стараясь не думать о «своей душе», потому что слишком много сделал вчера вечером. В какой-то момент он осознает, что когда пьян, он может убежать из большого замешательства в меньшее, а затем распознать это замешательство, «даже если он не мог понять его». И все же Уильямс пришел к убеждению, что чувство – это не то, что можно заглушить или утопить (если позаимствовать водянистые образы романа), а скорее то, с чем можно столкнуться лицом к лицу и овладеть им. В начале пятидесятых годов он стал полноправным и активным членом ордена Уинтерса – опубликовал эссе о Дж. В. Каннингеме, написал рецензию на сборник стихов Уинтерса, защитил докторскую диссертацию о Фульке Гревилле. Он был не единственным, кто присоединился к пастве в те годы. В стихотворении «К Ивору Уинтерсу, 1955» Том Ганн сравнил воспитание писателя Уинтерса с обучением эрдельтерьеров.
Уильямс попытался применить теорию на практике в своем следующем романе «Мясницкий перекресток» (1960). Джанет Льюис, жена Уинтерса, написала ему, что эта книга – «самый необычный поворот процедуры из вашего первого романа». Двадцатитрехлетний герой Эндрюс посещает лекцию Эмерсона и настолько вдохновлен, что бросает Гарвард и направляется на запад, где встречается с охотником на бизонов, который утверждает, что знает о нетронутом источнике шкур на территории Колорадо. Эндрюс вскоре узнает, что находится на дурацком поручении и сбрасывает свой звездный трансцендентализм вместе с другими изнеженными иллюзиями восточного побережья. Уильямс вел одну из битв Уинтерса – дело против Эмерсона, который, как он писал в «Проклятии Мауле», превратил пантеизм в американскую религию.
Но если «Мясницкому перекрестку» удается избежать своих прежних ошибок, он также слишком далеко уходит в другую сторону. Страх Уильямса перед риторической снисходительностью запрещал рефлексивные прозрения, эссеистические отступления и любое освобождение от режима методического описания – путешествие из Канзаса, погода в Колорадо, бесконечная резня буйволов. Читателям говорят, что «Эндрюс смотрел на зарезанного буйвола со смешанным чувством», но следующий отрывок не совсем раскрывает, что это за чувства:
На земле, неподвижный, он больше не обладал тем диким достоинством и силой, которые он приписывал ему всего несколько минут назад. И хотя тело образовывало огромный темный холм на земле, его размеры, казалось, уменьшились. Лохматая черная голова слегка склонилась набок, удерживаемая одним рогом, упавшим на неровности земли; другой рог был сломан сверху.
«Мясницкий перекресток» сегодня признан антизападным – режим, популяризированный Кормаком Маккарти. Однако его публикация в 1960 году оказала едва ли не большее влияние, чем публикация «Ничего, кроме ночи». Уильямс был непоколебим. Задача написания художественной литературы в соответствии с постулатами Уинтерса стала его пожизненной миссией.
Однако летом 1963 года Уильямс пережил один из самых болезненных эпизодов в своей жизни. Он собрал антологию «Английская поэзия эпохи Возрождения», которую намеревался посвятить одному из самых известных критических трудов Уинтерса. Но когда книга появилась, Уинтерс с негодованием написал ее издателю. Антология была «в большой и серьезной мере пиратской» из его собственной работы, обвинял он, и, поскольку Уильямс отошел от первоначальной теории, «он уходит в туман». Он угрожал использовать свою власть как «одного из самых известных поэтов, критиков и ученых, ныне живущих», чтобы вызвать «быстрый скандал» – или, как он выразился в другом письме, «активировать виноградную лозу» против Уильямса. Обращаясь к поэзии, Уинтерс отметил, что содержание антологии Уильямса совпадает с его собственным каноном, и что введение подражает его аргументам. Наконец, издатели согласились включить «вставку» в подтверждение того, что книга была бы невозможна «без усилий Уинтерса». Уинтерс смягчился, но проворчал, что Уильямс («маленький ублюдок») «сделает из меня много денег».
Острая боль остракизма. «Я не могу выразить, как я несчастен из-за всего этого несчастного дела», – писал Уильямс Уинтерсу из Европы, где он исследовал «Августа»: «Мой единственный мотив составления этой антологии – сделать доступными некоторые из стихотворений, которыми вы, я и другие восхищались» (Уинтерс сам жаловался на неадекватность существующих антологий). Но Уильямс принял основание для наказания: «Рискуя показаться сентиментальным, – он знал свою аудиторию, – я должен сказать вам то, что настолько очевидно для меня, что, возможно, иногда я говорю это недостаточно прямо: что нет на свете человека, чей труд я ценил бы больше, чем ваш, в чьем потомстве я уверен больше и перед кем я в неоплатном долгу».
Следующим актом Уильямса – и полным осознанием эстетики Уинтерса – был роман «Стоунер», который он пересмотрел, когда Уинтерс сгладил свои обвинения (первое эссе Уинтерса – манифест – утверждало, что предлагает «завещание камня»). Уильямс Стоунер – мальчик с фермы, который отказывается от образа жизни своих родителей, чтобы стать академическим специалистом по средневековой и ренессансной поэзии в университете Миссури. И все же он беспокоится, что, как учителя литературы, «его чувство удивления оставалось скрытым внутри него». Препятствие, как выясняется, заключается в избытке не разума, а его противоположности – потворства своим желаниям. Когда он забывает о своем собственном участии и поддается своему субъекту, соответствующие чувства возникают органически. Его главная добродетель – высшая умеренность, умение учиться и жить «основательно, добросовестно, без удовольствия и страдания». Отстраненность – его отличительная черта: его единственная дружба с университетским администратором Гордоном Финчем «настолько интимна, что почти безлична»; вынужденный брак его дочери внушает ему «жалость, которая была почти безличной»; и он рассматривает свои ссоры со своей холодной, неустойчивой женой Эдит, как если бы они «происходили с двумя другими людьми» (нам говорят, что у него «никогда не было привычки к самоанализу»).
Злодей романа, Холлис Ломакс, представлен как анти-Стоунер: амбициозный, многословный, харизматичный. Он борется с физической инвалидностью и прилагает огромные усилия, чтобы описать недостатки такого же инвалида, доктора философии по имени Чарльз Уокер, чей предмет – эллинизм Шелли. В замечательной последовательности – напряженной, как любая сцена боя – Уокер приходит на устный экзамен. Стоунер, Ломакс и Гордон Финч присутствуют. Ломакс, приехавший в Миссури с Востока, – нам подчеркнуто сообщили, что он учился в Гарварде, – с пониманием относится к этому тезису, признавая, что, хотя он и не «здравый», но «самый творческий». Во время допроса он защищает Уокера даже от самых незначительных расспросов. Романтическая теория литературы как самовыражения служит прикрытием для невежества. Когда Стоунер спрашивает об англосаксонском стихосложении, Уокер отвечает «чувствительно».
В другой, на удивление волнующей сцене Уокер выступает с докладом на семинаре Стоунера – упреком в адрес доклада, данного на прошлой неделе другой аспиранткой, Кэтрин Дрисколл. Уокера оскорбляет мысль о том, что «тайна и парящий лиризм шекспировского искусства» могут быть объяснены и что его гений нуждается в поддержке «традиции». Нет никаких сомнений в том, что Уильямс симпатизирует этому. Статья Кэтрин Дрисколл явно основана на эссе Каннингема «Традиция Донатана». Хотя Уокер выигрывает институтскую битву – Ломакс становится главой департамента и расстраивает карьеру Стоунера – Стоунер получает больший приз: авторское оправдание. Когда он заводит роман с Кэтрин, они обнаруживают, что настоящая любовь полностью совместима с их отвращением к романтической антирациональности:
Они были воспитаны в традиции, которая так или иначе говорила им, что жизнь ума и жизнь чувств разделены и даже враждебны; они верили, даже не задумываясь об этом, что одно должно быть выбрано за счет другого. Им и в голову не приходило, что одно может усилить другое, а так как воплощение предшествовало признанию истины, то оно казалось открытием, принадлежащим только им одним.
Стоунер и Кэтрин, потерявшись в своем увлечении, начинают собирать другие примеры фальшивого «данного мнения», подобно флоберовскому «Словарю принятых идей».
Это не пустая иллюзия. Флобер, писавший столетие назад, искал альтернативу романтизму, тенденцию, которую он определял так же широко, как позднее Ивор Уинтерс. В результате «Госпожа Бовари» открыла новый, более формально осознанный вид реализма. Уильямс определил нечто под названием «роман Флобера с его заботой о замкнутой структуре, сдержанной прозе и физических деталях, возведенных в символическое значение», и практически все писатели, которых он рекомендовал своим студентам, принадлежали к этой линии: Генри Джеймс, Эдит Уортон, Форд Мэдокс Форд, Джанет Льюис.
Когда в апреле 1965 года появился «Стоунер», самой продаваемой книгой в Америке была «Герцог» Сола Беллоу. Опубликованная той же газетой «Викинг», она также касалась доцента и жены, которая его не любит, дочери, которую он обожает, любовницы, которая, к тому же, его студентка, и врага, который хромает. Есть принципиальная разница. Герцог верен романтике. В то время как Стоунер делает все «бесстрастно» и «разумно», Герцог пишет письма «бесконечно» и «фанатично». Это «глупый, чувствующий, страдающий» Герцог (в более позднем романе Беллоу «Подарок от Гумбольдта» речь шла о падении исповедального поэта, о котором «даже у Ивора Винтерса нашлось хорошее слово»). «Герцог» разошелся тиражом сто сорок две тысячи экземпляров, «Стоунер» – меньше двух тысяч. В своих лекциях Уильямс утверждал, что большинство современных текстов «побуждают нас быть просто самими собой, думать или чувствовать просто так, как мы всегда делали». Это, возможно, объяснило, почему «Герцог» нашел большую аудиторию, которая ускользнула от «Стоунера».
Есть более лестный способ объяснить успех Беллоу. В ранних романах, таких как «Жертва», Беллоу принимал то, что он называл «флоберовским стандартом», желание сделать свой роман «идеальным для письма», но вскоре он обнаружил, что это слишком стесняет. Сначала, когда он писал «Приключения Оги Марча», он зашел слишком далеко в другом направлении. С «Герцогом» он нашел золотую середину: ему удалось стать автором «Жертвы» и «Приключений Оги Марча», написать «Город и страну» и «Башню из слоновой кости», направить в нужное русло силу контроля и изобилия. Рецензируя роман через четверть века после того, как он диагностировал литературную биполярность Америки в «Бледнолицем и Краснокожем», Филипп Рав приветствовал его «мастерское сочетание» – демотическое и литературное, вяжущее и поэтическое.
Но если «Герцог» и «Стоунер» кажутся на таком расстоянии самыми мощными и долговечными послевоенными романами об американском интеллектуале мужского пола, Беллоу, безусловно, выиграл в то время от склонения баланса в пользу поэтического и демотического, романтического и экспансивного. Послевоенная американская фантастика специализировалась на том, что Джеймс определил как привычный способ не-флоберовского романа: «большие свободные мешковатые монстры». Или, как выразилась Джойс Кэрол Оутс: «Мы рискуем быть названными «бесформенными» людьми, чьи представления о форме жестко ограничены». Лесли Фидлер в своем эссе о постмодернизме 1969 года весело охарактеризовал эпоху как «антирациональную» и «откровенно романтическую», в то время как Джон Барт, самообразованный «постмодернистский романтический формалист» написал эссе, связывающее постмодернизм с фигурой романтического «Арабеска». И ни один роман не был так тщательно изучен, как «Улисс» Джойса. Он оказал ощутимое влияние на «Герцога» и «Радугу гравитации» (1973), на рассказы Апдайка о кленах и «Пары» (1968), на «Уловку-22» (1961) Хеллера и «Аду» Набокова (1970).
В эссе о Каннингеме Уильямс описал пару глупых критических отвращений – к «малой» поэзии и к идее «совершенства». Но даже когда романтические качества расцвели, Великий, но неуправляемый американский роман не смог уничтожить идеальный, но незначительный американский роман. Защитники Уильямса всегда были несогласными с господствующим порядком. Ирвинг Хоу, главный поборник «Стоунера» в шестидесятые годы, был скептиком Эмерсона, учеником Рава, коллегой Уинтерса и Каннингема, врагом Фидлера; он обвинял романистов в том, что они просто отражают «бесформенный» характер современного опыта, не любил «беспричинный вербализм» «Приключений Оги Марча» и захлопывал «Жалобу портного». Сноу, который писал о «Стоунере» в «Financial Times» в семидесятых годах («Почему эта книга не знаменита?»), способствовал литературному реализму, создавая серию серых, дотошных романов об институциональных интригах.
Запоздалый успех «Стоунера», таким образом, вызывает культурный контрафакт. Что, если бы холодный анализ и формалистическая точность приобрели большую ценность в то время? Идеальный роман мог бы стать чем-то большим, чем просто упражнением для ученика, чем обряд посвящения американского романиста в поиск подлинного голоса, и мог бы сложиться другой послевоенный канон американской фантастики, возвысив такие названия, как «Смерть в семье» Джеймса Эйджи, «Загородный дом» Энн Петри, «Мартовские иды» Торнтона Уайлдера, «Доверие» Синтии Озик, «Дочери других мужчин» Ричарда Стерна, «Миссис Бридж» и «Мистер Бридж» Коннелла (Коннелл, изучавший литературное творчество в Стэнфорде, был членом жюри Национальной книжной премии 1973 года). К началу двадцатого века люди уже писали бы эссе, оплакивая несправедливое пренебрежение Нормана Мейлера, неправильно понятый средний период Беллоу, забытый постмодернизм Пинчона и Барта.
Вместо этого, начиная с конца шестидесятых годов прошлого века, излияние романтических тенденций сделало положение Уинтерса еще более неуместным. Единственным выходом был протест. Последний опубликованный роман Уильямса «Август» использовал реалистический режим для подтверждения классических ценностей. Если Стоунер Уильямса был типичным Уинтерсом, то император Август был истинным идеалом. Август уравновешен, опасается «слишком большой осторожности» и «слишком большой опрометчивости». Рассматривая заметки к своей автобиографии, Август говорит, что они напоминают «работу кого-то другого, но не мою». Когда он узнает об убийстве своего приемного отца, Юлия Цезаря, «словно крик боли вырвался из другого горла». Август-император как писатель, причем писатель особого склада: не подражатель, бледнолицый из низов. Добродетель согласия становится принципом управления:
Поэт созерцает хаос переживаний, путаницу случайностей и непостижимые сферы возможностей, то есть мир, в котором мы все живем, так интимен, что мало кто из нас берет на себя труд исследовать его. Плодами этого созерцания являются открытие или изобретение какого-нибудь маленького принципа гармонии и порядка, который может быть изолирован от того беспорядка, который затемняет его, и подчинение этого открытия тем поэтическим законам, которые, в конце концов, делают его возможным… Моя судьба – изменить мир, сказал я ранее. Возможно, мне следовало сказать, что мир – это моя поэма, что я взял на себя задачу упорядочить его части в целое, подчинить одну фракцию другой и украсить ее теми милостями, которые соответствуют ее ценности.
Концепция традиции – коллективной, конвенциональной, трансисторической – оставалась для Уильямса самым сильным противодействием романтическому самовыражению. В своей заметке о современной художественной литературе он сказал, что литература, обладающая «классическим» характером, позволяет нам думать или чувствовать иначе, чем мы думаем или чувствуем, и знать кого-то другого, кроме нас самих. После «Августа» он взялся за другой безличный роман о безличном человеке, который вызвал безличный отклик. В романе «Сон разума» – незаконченном после смерти Уильямса – у аспиранта есть опыт открытия, когда он обнаруживает Пьету Карло Кривелли в Музее искусств в Лос-Анджелесе: «Как будто какая-то жизненно важная часть его внезапно и неожиданно отделилась от его тела и стала его видением, стала тем, что было объектом его видения, стала самой картиной».
Недавний успех «Стоунера» не был обеспечен каким-либо решающим культурным сдвигом. Романтические порывы продолжают преобладать. Широкое распространение книги «В рабстве у Ивора Уинтерса» происходило на фоне возрождающегося модернизма и бума автофиксации. В то время как английские романисты, любящие форму, такие как Макьюэн и Джулиан Барнс, прославляли роман, Мартин Эмис, изучавший английский романтизм, поклонник Джойса и Беллоу, хранил молчание. Некоторое сопротивление было более откровенно политическим; критик Элейн Шоуолтер в Twitter осудила сюжетную линию «святого академического героя, мучимого беспричинной злобой своей презренной жены и других монстров». Каким бы серьезным ни казался Стоунер в романе, трудно игнорировать тот факт, что у него роман со студенткой, что он уклоняется от интимного партнерства двух инвалидов и с легким дискомфортом наблюдает, как его жена, а затем и дочь впадают в депрессию. Стив Олмонд в предстоящем исследовании «Уильям Стоунер и Битва за внутреннюю жизнь» утверждает, что сила романа проистекает из его защиты частной жизни и достоинства. Но если Стоунеру суждено стать «героем», как настаивал его создатель, он не совсем герой для нашего времени. Возможно, и Уильямс тоже, с его преданностью идее сдержанности. Том Ганн в своем стихотворении об Уинтерсе предположил, что «различающий мозг» служит для защиты от «невротического видения»; сам Уильямс в стихотворении писал, что Гораций «настаивал на хаотическом факте / необходимой лжи». Продукты различения или обмана – вкус к структуре и порядку, к таксономии и дихотомии, к форме и этикету, к простоте и совершенству – все это слишком ясно проявляет эти подавленные неврозы. В интервью Guardian писательница Элеонора Кэттон описала «Стоунера» как «глубоко оборонительную книгу».
Но настроение гордой снисходительности – возвышенный взгляд на человеческую истерию, – которое некоторые читатели «Стоунера» находят отталкивающим, является центральным для привлекательности романа. Это также было условием его повторного открытия. Здесь было идеальное убежище в безвкусное время, и книга предназначалась специально для спасения от забвения: скромная, ненавязчивая, со строгим учетом строгих значений. Однако на данный момент Уильямс не является частью истории американской литературы. Он остается, пусть и роскошным, пленником своей традиции.


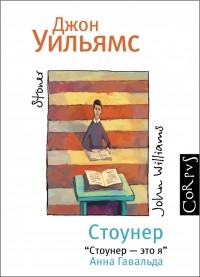


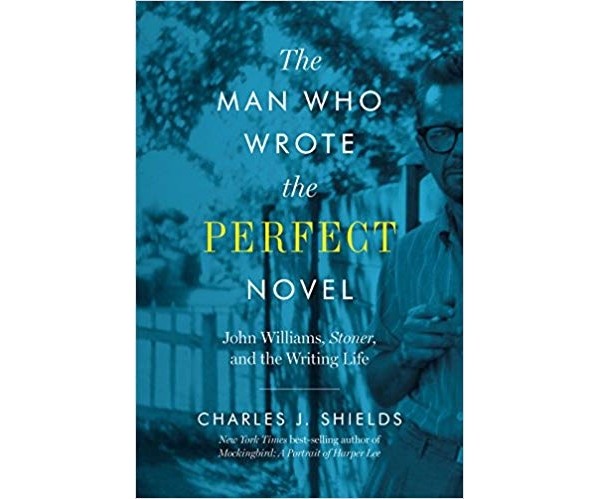
Комментариев пока нет — ваш может стать первым
Поделитесь мнением с другими читателями!