12 января 2017 г., 22:12
705
Кафка об одежде, смехе и ничтожных словах
 Фото: sluchay.ru
Фото: sluchay.ru
Фрагменты из книги «Конандрум: Избранная проза Франца Кафки» (Konundrum: Selected Prose of Franz Kafka)
Какое множество слов украшает страницы этой книги!
Они должны пробуждать воспоминания. Ах, если бы слова могли помнить!
Слова — лишь ничтожные скалолазы на пути к недосягаемым вершинам и несчастные старатели, пробивающиеся к золоту смысла. Они не могут отыскать спрятанные в вершинах сокровища или добыть их из глубин. Но это живое напоминание, которое мягко расставляет по местам все, достойное запоминания.
И когда маленькая раскаленная искра вырывается наружу, из пекла ретроспективы, и вы задерживаете взор на ней, будто охваченная магическим заклинанием, тогда...
Но как, с дрожащими руками и грубым инструментом для письма, может кто-то вписать себя в эту чистую память, иначе как запятнав эти непритязательные белые страницы?
Что я и делаю 4 сентября 1900 года.
Несмотря на мою потребность в превосходстве и удовольствии в его достижении и том воздействии, которое это оказывает на остальных, я исключительно страдаю от осознания факта, что всегда таскаюсь в поношенной одежде, которую мои родители заказывали для меня у разных людей — и долее всего у портного в Нусле. Конечно, я сознавал, что был плохо одет (факт, который мне было тяжело игнорировать и который я понимал, в то время как другие одевались хорошо). Но в течение многих лет я просто не мог измерить то, до какой степени моя одежда может быть причиной моего жалкого внешнего вида. Однако даже с этого момента, склонный более к подозрениям, нежели к фактам и также уже склонный к самоуничижению, я был убежден, что как только я надеваю её, одежда принимает этот жалкий вид одеревеневшей и жесткой, ниспадая с моего туловища, словно с каркаса, беспорядочными складками.
Новая же одежда вообще не могла быть предметом обсуждения, если уж я должен выглядеть уродливо, я по крайней мере хотел бы ощущать при этом удобство и, кроме того, уберечь мир, который успел вырасти, привыкнув к виду моей старой одежды, от того, чтобы терпеть мозолящую глаз новую. Этот давний отказ перед лицом моей матери, которая со своим взрослым опытным взглядом придиралась к моему старому костюму и непременно хотела пошить мне новый, повлиял на моё чувство собственного достоинства: так как я принужден был признать, — что подтверждалось и моими родителями, — не было ничего от природы дурного в моей собственной наружности.
Вследствие моей позы, порожденной мешковатой одеждой, я ходил с согнутой спиной, ссутуленными плечами, неуклюже болтающимися руками и кистями, пугаясь зеркал, так как с моей точки зрения они лишь обнаруживали моё уродство, которое, к тому же, не могло быть отражено со всей точностью, потому что если бы я и взаправду выглядел так, я бы обязательно вызвал большой резонанс в то время, как прогуливался по воскресеньям, страдая от мягких тычков матери в мою спину и её слишком абстрактных увещеваний и пророчеств, которые никак не пересекались с моими переживаниями в настоящий момент. У меня просто не было сил, чтобы обеспечить хотя бы минимальные удобства для своего будущего. Я задерживался своим сознанием в текущем состоянии вещей, не из настойчивости или сильной убежденности, а скорее потому что это не ослабляло моего ума, из печали и страха; печали, потому что настоящее казалось столь грубым, что я не смел дерзнуть отказаться от него, пока оно не растворялось в счастье; страх — перед самым малым шагом вперед, я считал себя недостойным в своём презренном детском поведении по-настоящему прикоснуться к великому мужественному будущему, будущему, которое, кроме того, по большей части казалось таким не представимым, что даже маленький шаг казался бутафорией и делать следующий было немыслимо.
Наконец, после пяти месяцев в моей жизни, в течение которых я не написал ничего, что могло бы меня удовлетворить, и никакая сила воли не могла вытянуть из меня ни слова, несмотря на мою твердую решимость, импульс вновь овладевает мной, заставляя обратиться к себе. Импульс, которому я всегда отвечал в прошлом, когда чувствовал необходимость ответить, так как всегда есть нечто большее, доступное для извлечения: иголка в этом стоге нерешительности, в котором я провел последние пять месяцев, и чья несчастливая судьба, мне кажется, заключается в том, чтобы обнаружиться на пожаре в летнее время и сгореть в мгновение ока. Если бы только такая судьба постигла меня! И пусть эффект будет десятикратным, так как, по правде сказать, я даже не жалею об этом несчастном времени. Мой жребий не несчастье, но и не счастье в то же время, не безразличие, не слабость или болезнь, не утомление, ни одно из тех чувств, которые я мог бы определить, так что же это? Моя неспособность указать на это пальцем связана с невозможностью писать. И мне кажется, я знаю причину, без осознания того, чем она вызвана. Все вещи, о которых меня тянет писать, не пронзают меня от самых корней, а скорее произрастают откуда-то из середины. Просто попробуйте сгрести в охапку, охватить былинку, растущую из середины стебля. Возможно, кто-то может сделать это, например, японские акробаты, балансирующие на лестнице, стоящей не на твердой земле, а на поднятых вверх ступнях полулежащего партнёра, на лестнице, не подпертой стеной, но возвышающейся в воздухе. Что до меня, то я не могу делать этого, вне зависимости от того, что у моей лестницы нет поддержки в виде таких чувствительных подошв. Это, конечно, далеко не все, что стоит на моём пути. И порыв сделать это все равно не заставит меня писать. Но каждый день по крайней мере одно предложение должно указывать на меня так, как телескопы сейчас указывают на кометы. И если бы я был тогда вынужден лицом к лицу столкнуться с этим предложением, если бы я был вытянут из моего укрытия силой этого предложения. Так. как это было, к примеру, на прошлое Рождество, когда все зашло так далеко, что я едва мог сдерживать себя и когда я действительно выглядел балансирующим на последней ступеньке моей лестницы, которая, однако, была плотно зажата между полом и стеной. Но какой же шаткий пол это был и какая колеблющаяся стена! Но все же эта лестница не выскользнула из под моих ног, которые мне удалось удержать прижатыми к полу и опертыми о стену.
Сегодня, к примеру, я совершил три дерзких вещи: одну по отношению к кондуктору, другую — к персоне, которой был представлен. Хорошо, это было лишь дважды, но до сих пор память ноет хуже рези в желудке. Такое неподобающее поведение было бы дерзостью для для любого человека и, безусловно, для меня. Таким образом мне удалось выбраться из своей раковины, борясь с самим собой в каком-то тумане, но худшей вещью стало то, что никто не заметил, что это была дерзость, которую я счёл необходимым совершить по отношению к своим компаньонам, и счел необходимым все время сохранять невозмутимое лицо и нести ответственность в тиши; однако самой худшей вещью стало то, что один из моих знакомых воспринял эту дерзость не как признак наличия характера, а как образец самого характера, выражающегося в дерзости и зашёл так далеко, что даже похвалил меня за это. Так какого же дьявола я не сжался попросту внутри себя? Сейчас я говорю себе: смотри, мир позволяет себе быть оскорбленным тобой, кондуктор и человек, которому ты был представлен, оставались недвижимыми, пока ты удалялся, последний даже попрощался с тобой. Но это ничего не значит. Нет ничего, что можно было бы обрести, замкнувшись в себе, но так же мало происходит и вокруг. Каковому вызову я отвечаю: я бы охотнее позволил себе быть избитым, оказавшись в кольце, чем стал бы сражаться среди незнакомцев, но где черт побери это кольцо? Какое-то время я рисовал его в своём воображении лежащим на земле, будто нарисованным мелом, но сейчас оно уже просто вихрится вокруг меня.. нет, даже не вихрится (…)
Как много дней прошло опять в тиши; сегодня 28 мая. Неужели день изо дня не хватало у меня решимости даже взять в руки этот держатель для пера, этот кусок дерева? Я уверен, что нет. Я занимался греблей, верховой ездой, нежился под солнцем. (…)
Воскресенье. 19 июля, 1910. Спал, просыпался, спал, просыпался, что за ничтожная жизнь!
Я тоже могу смеяться, Фелис, спорим, могу, я даже известен как большой насмешник, несмотря на то, что в этом отношении я имел обыкновение вести себя намного более безрассудно, чем я делаю это сейчас. Это даже происходило со мной внезапно — и как! — на торжественной встрече с директором — это было два года назад, но случай с тех пор остался институтской легендой. Это было бы очень затруднительно — пытаться в деталях описать значительность этого человека, просто поверьте мне, когда я скажу, что он несомненно очень важен, так что обычный служащий не может вообразить этого человека стоящим с ним вровень, но лишь парящим. И как мы обычно не имеем возможности для дружеской откровенности с императором, для обычного служащего — это одинаково во всех учреждениях — встреча с этим человеком окружена аурой, как от встречи с самим императорским величеством. Соответственно, как и всякий другой человек, который рассматривается так близко и чьё высокое положение не есть единственно торжество его собственных достижений, он также обладает некими смехотворными чертами, но вы действительно должны быть не в своём уме, чтобы позволить себе смеяться в присутствии этой важной персоны. Мы — двое коллег и я — в то время были только что продвинуты на более высокую позицию в нашем учреждении, и должны были явиться в строгих черных сюртуках к директору, чтобы выразить свою благодарность, при этом я отважусь заметить, что у меня была личная причина быть особенно благодарным*. Самому заметному из нас троих (я же был самым младшим) следовало сказать несколько слов благодарности, кратких, приятных и подходящих к сути ситуации. Директор слушал в своей обычной торжественно-формальной манере, которая немного напоминает нашего императора на официальных приёмах и в обычной для таких случаев позе (поставленной и неизбежной). Его ноги были слегка скрещены, левая рука сжата в кулак и опиралась на край стола, голова немного наклонена, так что белая борода изгибалась, упираясь в грудь, и более того, его не слишком большой, но все же выпирающий живот немного покачивался. Я в то время находился, должно быть, в неконтролируемом настроении, потому что я знал эту отрепетированную позу слишком хорошо и не было никаких разумных причин для вырвавшегося у меня прерывистого смешка, который я еще мог замаскировать под кашель, пока директор не поднял головы. Ясный голос моего коллеги, который, зная о происходящем, держался прямо, оставаясь невосприимчивым к моему неприличному поведению, сдерживал меня. Но затем, после очередной его фразы, директор поднял лицо, и после меня на мгновение охватил ужас, вызванный тем же самым весельем, поскольку теперь он мог легко заметить и убедиться благодаря выражению моего лица, что смех, который к моему сожалению сорвался с моих губ, — определенно не кашель. Но когда он начал ответную речь, в своей манере, очень знакомой, в высочайшей степени шаблонной и абсолютно бессмысленной, под аккомпанемент вибрирующих тяжелых грудных звуков, в то время как мой коллега бросал косые взгляды, давая мне понять, чтобы я держал себя в руках, хотя я и так уже напрягся чтобы это сделать, все это вновь живо привело меня в состояние восторга от испытываемого ранее желания засмеяться, так что я не мог контролировать себя и потерял всякую надежду на то, что когда-нибудь буду в состоянии это сделать. Сперва я слегка хихикал в ответ на маленькие остроты директора, рассудительно разбрасываемые им тут и там, но в то время как обычай предписывает сложить губы в почтительную улыбку в качестве ответа на эти остроты, я издал звучный смех, отмечая как отшатнулись мои коллеги в страхе заразиться этим смехом; сочувствуя им в этот момент больше, чем себе, я все же ничего не мог с собой поделать, не сделал даже попытки отвернуться или прикрыть рот рукой, моя голова, наоборот, беспомощно застыла на месте, продолжая смотреть директору в глаза, не в силах отвернуться, вероятно инстинктивно чувствуя, что от этого все может только лишь ухудшиться, поэтому лучше избежать каких-либо перемен в выражении лица. После этого, конечно, раз все уже так завертелось, я не только смеялся над его нынешними остротами, но и над теми, что были сказаны ранее и после, и над всеми ними вместе, до такой степени, что никто не знал, над чем, черт побери, я смеюсь. Каждый чувствовал себя в неловкой ситуации, за исключением директора, который оставался по большей части к этому безразличным, как всякий человек, привыкший к многообразию превратностей и который, к тому же, не мог себе представить какой-нибудь непочтительности по отношению к его августейшей особе. Если бы мы вовремя улизнули, директор мог бы прервать свои наблюдения, все пошло бы более или менее гладко, моё поведение несомненно было бы признано неприличным, но это неприличие не стало бы предметом общественного обсуждения и дело было бы замято и забыто к молчаливому согласию четырех заинтересованных сторон, как часто это случается с подобными, кажущимися непристойными, вещами. К сожалению один до сих пор не упомянутый коллега (почти сорокалетний мужчина, с круглым детским, хотя и бородатым лицом и в придачу ко всему пьющий пиво) начал заранее заготовленные пустые словоизлияния уже от собственного имени. В тот момент я нашел абсолютно непонятным, что, уже взволнованный моим смехом, стоя там с раздутыми щеками, подавляя свой собственный смех, он начал серьёзную речь. Но в его случае это имело смысл. Наделенный пустым и чересчур горячным темпераментом, он имел склонность горячо поддерживать все суждения, присущие большинству, и если бы не задор и обаяние его воодушевления, этот разговор был бы немилосердно скучным. Директор же продолжал говорить что-то совершенно безобидное, что, однако, не совсем сочеталось со сказанным коллегой — в дополнение к чему, возможно под влиянием воспоминаний о моём прерванном смехе, тот забыл где он находится; короче говоря, он подумал, что это подходящий момент, чтобы упрочить свои позиции и убедить директора (конечно, не обращая внимания на мнение остальных). Так что, когда упомянутый коллега сделал несколько случайных замечаний (по делу, которым уже пренебрегло общественное мнение, отчего это звучало особенно глупо), я потерял контроль над собой, моё чувство пристойности, которое я до сих пор имел в виду, просто растворилось, и я издал такой громкий и безрассудный взрыв смеха, который вы вероятно, могли бы услышать только в классе полном школьников. Комната затихла, и я вместе со своим смехом, наконец, превратился в центр всеобщего внимания. Причём в то время как я смеялся, колени мои дрожали от ужаса, и у моих коллег не оставалось никакого выбора, кроме как смеяться вместе со мной, хотя им далеко было до моего так долго подавляемого и наконец во всем своём совершенстве исторгнутого хохота, и в сравнении с этим они казались довольно уравновешенными. Хлопая себя по груди правой рукой, частично признавая свой грех (как на День искупления), а частично чтобы очистить свою грудь от потока этого веселья, я пробормотал невнятные извинения, которые могли бы быть вполне убедительными, но в любом случае прервались новыми взрывами смеха. Теперь и сам директор был смущен и только благодаря врожденному чувству невозмутимости, подкрепляемому отработанной бесстрастностью человека в таком положении как он, он нашел фразу, которая смогла объяснить мои завывания более менее разумно, относя их к шутке, которую он рассказал некоторое время назад. После чего он без промедления отпустил нас. Непобежденный, все еще смеющийся, хоть и чрезвычайно растерянный, я первым, шатаясь пошл прочь.
*Кафка был обязан своей работой в Институте страхования от несчастных случаев Чешского королевства заступничеству школьного товарища Эвальда Прибрама, который был сыном директора - доктора Отто Прибрама.




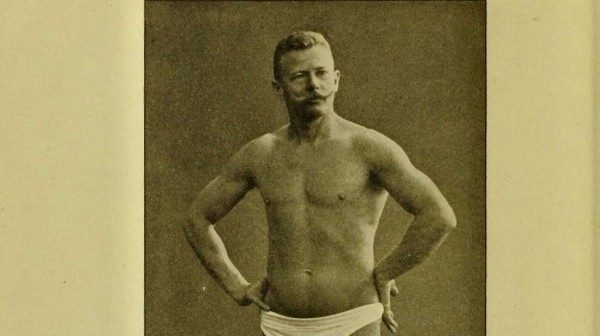

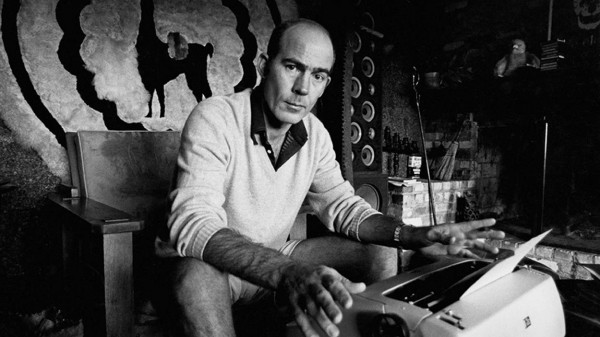





Комментариев пока нет — ваш может стать первым
Поделитесь мнением с другими читателями!