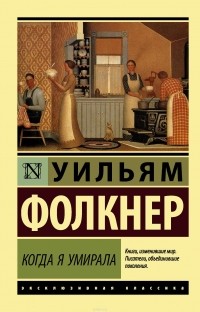Больше рецензий
3 апреля 2018 г. 16:18
2K
5 Аддисея, или возвращение женщины на небо
РецензияВ гибельном фолианте
Нету соблазна для
Женщины. — Ars Amandi
Женщине — вся земля.Сердце — любовных зелий
Зелье — вернее всех.
Женщина с колыбели
Чей-нибудь смертный грех.Ах, далеко до неба!
Губы — близки во мгле…
— Бог, не суди! — Ты не был
Женщиной на земле!
Марина Цветаева
В кинематографе есть стилистический приём "4-й стены", её разрушения : белые страницы книги - стены комнаты, театра мира. Голубые ладони взора слепо шарят по ним, ищут выход ( в романе речь ведётся о смерти, и муке её преодоления любовью).
Бледная, увядшая листва обоев прозрачно и холодно вздрагивает под пальцами - листва за окном умирающей матери в романе, - и вдруг, стена в блаженной вспышке тает, ладонь взора, проваливается в тугое, матовое течение воздуха, пространства книги : листва обоев с обморочным вздохом выплёскивается наружу, расцветая, оживая тёплой, мотыльковой рябью весны.
Читателя, душу, весну - застают врасплох : они участвуют в действии книги, они движутся, дышат вместе с героями; время затаило дыхание, как в детстве ребёнок, увидевший впервые тающие ручейки теней смерти : смерть есть, она была, а значит... её уже нет. А жизнь, жизнь, была ли она?
Ничего уже нет, словно сбылось новозаветное "и времени больше не стало". Времени нет, а есть долина вечера, пространства, и в вечере пространства бесприютными планетами - ибо погасло солнце, - несутся голоса героев, несутся возле нас, нами, и вот, наше сердце - алая планета, несётся среди них...
Тишина, тёмный штиль пространства, и голос, похожий на звёздный колосок, проросший из мрака земли.
Он говорит с нами, из нас, мимо нас, он проходит сквозь нас, словно призрак, касаясь листвы за окном, солнца, повисшего сверкающей капелькой на кончике листвы.
Солнце срывается, солнце капает... срываются и другие капли с веток и листвы - настоящий солнечный ливень!
Другие голоса воскресают, прорастают из мрака, из раскрытых, сияющих ладоней книги.
Словно в фильмах Бергмана, Тарковского, Кончаловского, не люди - они смотрят друг в друга, в себя, в сияющую пустоту мира, - но их голоса, оборачиваются на нас, говоря прямо в нас о своём горе, говорят как-то апокалиптично, в тональности "Постороннего" Камю : "сегодня умерла мама..."
Солнце капает, мир несётся косматой кометой в осени вечера, пространств, расправив белоснежный хвост, похожий на седые волосы : сегодня умерла мама...

Работа Christian Schloe
Сам Фолкнер обмолвился, что идея романа косвенно вышла из одной строчки "Одиссеи" Гомера : "когда настал мой смертный час, женщина с собачьими глазами не пожелала запереть мне очи".
Как обычно бывает с ассоциативным мышлением писателей, Фолкнер что-то напутал, ибо в "Одиссеи" таких строчек нет. Фолкнер упоминает 11 песнь, но в ней похожие слова говорит призрак Агамемнона, которого - в заговоре, - убила не то его жена Клитемнестра, не то царь Эгист.
Но если прочитать 11 песнь целиком, то мы увидим нечто важное для понимания романа.
Одиссей спускается в Аид ( грустный, почти набоковский поцелуй аллитераций Одиссея и Ада в имени главной героини : Адди), и на пролитую им жертвенную кровь, словно на алый фонарь, забытый в осеннем поле, слетаются тёмные мотыльки умерших теней.
Среди этих теней Одиссей встречает милую тень покончившей с собой матери : мотылёк тихо сел на плечо сына, словно целуя его...
Душу руками обнять скончавшейся матери милой.
Трижды бросался я к ней, обнять порываясь руками.
Трижды она от меня ускользала, подобная тени
Очень важные для понимания романа строчки : трижды в романе "тень" умершей матери будет ускользать из объятий "Одиссея" - в реке, огне и земле, т.е, перед нами открывается не столько жизнь и смерть женщины, сколько апокриф смерти самой жизни на Земле, её пути на родину.
Таким образом, сам роман превращается в роман-одиссею, но в обратном, ретроспективном порядке : 10 лет длились скитания Одиссея, 10 дней умирала героиня и 10 дней длилось её мытарство с гробом домой - по 9 кругам ада, - где она желала чтобы её похоронили ( число 10 вообще станет центральным в романе).
Сюжет сжат до почти библейской притчи : умирает мать, её 5 детей и муж, каждый по-своему переносят утрату, и всё было бы вроде бы просто, если бы роман не написал Фолкнер, ночью, ночами на богом забытой электростанции, где он тогда работал, испытывая почти Арзамасский, экзистенциальный ужас Толстого, порой забываясь в алкоголе, спускаясь по Дантовым кругам-орбитам вращения Земли в самый ад жизни, существования и тайны женщины, жизни.
Давайте разложим имена героев на тёмную радугу пейзажа повествования :
Первый сын Адди - Кеш ( числа - ими прошит весь роман, платить по счёту).
На глазах ещё живой матери, смотрящей в окно, он мастерит ей гроб ( звук пилы, словно собака на цепи,"собака" из той самой строчки Фолкнера из "Одиссеи" не один раз мелькнёт в романе, словно трёхглавый Цербер, охраняющий вход в Аид).
Он однажды упал с церкви, и потому хромает. Аллюзия ли это на искушение Христа на крыле храма, или на ангела, хромающего после падения? Думается, что это очень тонкая отсылка к библейскому Иакову и его лестнице из сна, по которой всходили и нисходили ангелы, а значит - я об этой связи скажу чуть позже, - Фолкнер заложил в этом образе довольно жуткий мотив смерти не только матери-жизни, но смерти в мире Бога-отца, мучительной невозможности его бытия на Земле.
Второй сын -Дарл. После рождения от нелюбимого 1-го ребёнка, 2-й ещё больше погрузил мать в темноту, глубину безысходности, потому ассоциативно в матери боролись два близких слова : DARK и DARL ( K и L : K - мать сидит поджав к груди колени, молитвенно-кричаще протянув руки к ночному, молчаливому небу. L - мать на коленях, руки бессильно опущены..), тьма и дорогой, драгоценная тьма, которую хочется обнять; Кеша - мужу, богу, а Дарла - чуточку себе : тьма к тьме...
Третий сын -Jewel, сокровище ( где сокровище ваше, там и сердце ваше).
Адди зачала его не от мужа, но от священника : он её тайный грех, её мука, любовь и надежда, кроме того, 3 первых буквы его имени значат "еврей", что сразу отбрасывает на роман библейские, мессианские тени.
4-й ребёнок - дочка Dewey Dell - лесистая лощина, в которой змеится тёмное вожделение. Имя производное от еврейского имени "Давид" - любимый. Как видим, мать 3 детям ( кроме 1 и последнего) подобрала имена любви и бессознательной ласки).
5-й, младший сын - Вардаман : опека, человек, сирота, соглядатай : он сойдёт с ума от горя.
Anse - муж умершей : заводь, божество.
Итак, пейзаж имён, пейзаж повествования очерчен.
Адди, жена, пребывает "в боге", в тёмной заводи, словно пленная рыба : младший сын поймает рыбу, и когда мать умрёт, когда гроб с ней на телеге при переправе через реку выскользнет в реку и поплывёт, сошедший с ума от горя маленький сын, промолвит грустным шёпотом : моя мама - рыба ( на самом деле, первая аллюзия в романе на то, что мать - это природа)
Интересно, что рыба - символ Христа в Христианстве, обыгрывается в романе экзистенциально и жутко, вплоть
до таинства евхаристии, каковое было в фильме Даррена Аронофски "Мама!".
В каком-то рассказе Фолкнера есть жуткий и странный персонаж - Христос, он негр, беглый негр, наводящий страх в ночи на людей.
В ночи не видно негра, в мире - не видно бога, Христа, но его приближение страшно и сладко, он в любой миг может коснуться тебя...
Вот и в романе, тёмное кипение реки после дождя - апокалиптический образ потопа за грехи людей, - через которую переправляется семья с гробом, сравнивается с таинственной тёмной рыбой, - Христом.
Да образ Христа и правда мелькнёт чуть позже, когда Фолкнер сравнит вдруг всплывшее стоймя бревно - с Христом наказующим, ударяющим одного из братьев в ногу - Кеша ( довольно прозрачный символ борьбы Иакова в ночи возле реки с ангелом, богом, с последующей травмой бедра); вертикально вставшее бревно и горизонтальный гроб в воде - образуют крест...

Но это будет позже, а пока давайте вернёмся к началу, пройдём мимо Кеша, увлечённо, с робко, звёздно блеснувшей слезой в вечере ресниц, делающего гроб, подойдём к окну, которое открыл грустный мальчик : мама, милая мама, я принёс тебе в голубых ладонях ветра дождь и тёплый запах листвы... живи, мама, вставай с постели, иди ко мне, иди в мир - ты свободна, мама! - вытирает дрожащей ручонкой слёзы на глазах, камера дрожит, опускается, выхватывая трагический комочек тени под окном, лежащую рыбу на земле - алый рот астматически дышит, глотает небо.. ей кажется, что небо - это голубой, воздушный океан : вот бы мне туда ( думает рыба), вот где свобода и жизнь..,- выхватывает блеклую рябь листвы...
Мальчик перестаёт моргать, оперевшись взором на вдруг свечеревшее сердце.
Листва перестаёт моргать на стихшем ветру... камера снова смотрит чётко и ясно, смотрит в окно, вплывает в окно : тихая женщина лежит на постели : тонкие веточки-ручки, тёмные волосы с тонким инеем седины, размётаны по подушке.
Возле неё сидит её дочь...
Со стороны может показаться, что всё горе уже отшумело зелёным, карим шумом листвы, что дожди и солнце сменяли друг друга множество раз : дочка пришла весной на могилку матери и, тихо припав на колени, что-то рассказывает ей...
Постельная могилка - грустный бугорок под тёмным одеялом... а вокруг, бледной, солнечной листвой порхают, дышат чьи-то лица, ладони : лица и руки уносятся, падают... осень воспоминаний.
Дочь у матери на могилке, дочь - сама мать, она зачала в грехе, в мимолётной и низкой ночи лиственного сумрака, она хочет сделать аборт, хочет убить в себе мать, она не хочет повторить судьбу матери, выйдя за нелюбимого, заживо похоронив свою жизнь...
В некотором смысле, роман Фолкнера - это пароксизм феминизма, эмансипации не женщины, но души, её обнажение до стыда смерти : так душа перед одром любимого и смерти, сбрасывает к ногам тело, словно одежду.
Роман Фолкнера - самое трагичное, закатное осмысление темы Мадам Бовари.
И если у Флобера женщина изнывает, томится в коконе нелюбви, одиночества, простёртая в долине ночи, укрытая смирительной, прохладной рубашкой простыни - душе хочется вырваться из него мотыльком запретной... простой...да какой угодно любви, дабы успеть надышаться небом и ночью, - то у Фолкнера женщина, её душа, изначально томится и заперта в этом холодном, мужском и безумном мире, теле... словно бы её насильно выдали замуж за этот мир, надев на неё белоснежное, венчальное, холодное платье тела...
Ещё будучи молодой, Адди томилась по чистой любви, жизни, но не чувствовала их, ибо не довольствовалась, как другие, пустыми словами о любви, боге, грехе : грех выдумали те, кто не грешил, бога - кто не верил, любовь - кто не любил...
Души людей ударяются мотыльками в блёсткую тьму стёкол слов, свисают на звёздных ниточках слов пауками, и слова соприкасаются на миг, тела соприкасаются... а души?
Боже, хочется стать лёгкой, чистой, лежать в цветах, и воспарить, подняться в синий шум листвы надо мной, чтобы листва обнимала, целовала колени, живот, грудь и губы... Но тело словно прибито к земле.
На что мне вот эти груди, эти дети, когда я хочу зачать от солнца, реки и листвы? Нет, это не груди, а какое-то трагическое отражение обрывков крыльев на спине...
Вот, крылья оборваны, оболганы... и с них стекает не то кровь, не то молоко моей скорби - не видно в ночи, - я лежу в ночи возле мужа, и истекаю болью, существованием.. Дать мужу грудь, напоив его своей болью? Детям дать? Но я не чувствую их, не чувствую себя...
Убежать бы в небо, изменить земле и жизни.. с небом, ночью!!
Он был священником, он близок к небу... он сошёл в долину, лощину ночи ко мне на коне, и я плыла Офелией в ночи, расправив руки-плавники, я плыла по тёмным цветам - лишь один глоток неба, ночи.... я тогда умирала, рождалась : я бежала из одной жизни в жизнь новую, тихую, в себя, в небо : небо билось у меня под сердцем, да, так я зачала его, моего Джула, моё сокровище, зачала от неба и ночи, ибо пока по мне чёрными пауками ползали его руки, я смотрела только на звёзды, касалась только ночи и цветов.. я была свободна тогда, я тогда жила.
Когда я умирала, я смотрела в окно, где мой сын делал мне гроб. Милый, он зарывается в свою работу от горя так, словно хоронит себя заживо..
Капли дождя стучат по крыше. Их тёмные шляпки туго вколачиваются в крышу, словно в гроб.
Осень. Листва за окном жёлтыми, багровыми язычками огня жарко лижет окна дома, касается меня... мне страшно, - Кеш, Кеш!!
Дом построен на горе, дом замер на вершине горы с наклоном в небо : он вот-вот взлетит, но он похож на сизифов камень... Хотела убежать дальше от земли, к небу... не получилось.
Не любила никого кроме Джула, не любила жизнь, не понимала её... а теперь любовь к детям и к жизни так жарко и мучительно-сладко растёт из моей груди, рождается в мир ласковым деревом...Оно шумит, вы слышите его тёплый шум, слышите?
Вот Джул мелькнул в окне, тепло обняв меня синей лаской глаз. Милый...
Ему больно всё это. Больно смотреть на смерть. Должно быть, так Мария смотрела на Христа на кресте : краешком, крылышком взгляда, сердца, ибо невозможно смотреть на то, как умирает жизнь, мир, что тебя породил, ибо мир проваливается, осыпается кратером ночи, и ты соскальзываешь в ночь...
Джул... тебя называют чёрствым, они не понимают, что будь твоя воля, ты бы выгнал всех глазеющих, и остался со мной : я и ты, мы одни на горе, на вершине ночи... ты бросаешь, скатываешь на них камни... мы с тобой среди ночи, мой бедный мальчик, мой Сизиф...
Сердце падает камнем в бездну... Кажется, меня кто-то ест изнутри.Сегодня мне снилось, что тело женщины, моё тело - тёплый хлеб.
Я лежала на столе, лежала на самом дне ночи на илистой ряби простыни, и с разных сторон, окунаясь в ночь, ко мне тянулись руки священника, мужа, совсем незнакомых людей.
С лживыми слезами на глазах, забыв о голоде сердца, они голодными и жадными руками тянулись ко мне, брали меня по чуть-чуть, ели живьём, и меня становилось всё меньше... а детям я сама давала себя, отламывала от себя, от сердца, и давала им в руки, давала до тех пор, пока от меня ничего не осталось, ничего, кроме горсточки обнажённого сердца...
Потом мне снилось, что меня живой везут на кладбище... мне снился перевёрнутый крест апостола Петра, и отражение креста в воде : тело женщины - храм, осквернённый, разрушенный : в разбитое окно чёрной, огромной бабочкой влетел ворон...Одели как невесту, платье - колоколом, положили - задом наперёд, дабы не помять платье, - в гроб, поцеловали, сказав, что всё будет хорошо, и закрыли крышку гроба, словно прикрыли дверь.
Гроб похож на церковь. В нём колокол сердца бьётся, дышит в темноте, темнотой... как одиноко и страшно... Джул! Джул!!
Вполне возможно, что создавая этот мрачный , самый экзистенциальный американский роман, Фолкнер бессознательно думал о рассказе Мопассана "Старик", - фабула близка : старик лежит ещё живой в своей комнатке, а за стеной, гости уже поминают его за столом... Также Фолкнер возможно думал и о "Смерти Ивана Ильича" Толстого.
Одиночество, покинутость умирающего героя Толстого всеми своими близкими отразится и у Фолкнера : с одной стороны, дети относятся к смерти матери прохладно, "посторонне", как сказал бы Камю, словно бы смерти нет - как впрочем и жизни, нет, - словно мать просто собирается в дальнее путешествие : вот сейчас она повернётся на постели к стене, хлопнет дверью сна, и выйдет в смерть и ночь...
Но с другой стороны, они безумно, как могут, переживают это горе - похоже, что смерть впервые прокралась на землю, - зарываясь сердцем в свои дела, слова.
Как мать смутно чувствует своё существование, так и её дети смутно чувствуют её, подобно слепым кутятам тыкаясь в неё, её ускользающее бытие : в листву деревьев, похожую на её тёплые ладони, в синее течение реки, похожей на её глаза... планеты-голоса летят в ночи, касаются листвы, реки... радуга планет - луч голоса дробится о листву синей ряби.
Голос Фолкнера, творца, словно Протей и бог, душой вселяется, ныряет то в тёмное течение голосов, глаз, смотря на нас и мир, говоря с миром и нами.
Как бог говорит через безумцев и детей, так и большинство монологов исходит от младшего сына и Дарла : Дарл видит всё, он видит сквозь стены и сердце, он знает о грехе сестры и матери, ибо в детстве слышал как кто-то на коне в ночи ехал в роще к матери... он не видел кто ехал, но слышал коня : мама Джула - лошадь, - грустно шепчет Дарл, - а у меня нет мамы...( второй символ матери--природы, и одновременно, мучительный, почти достоевский символ мирового сиротства человечества), голос сворачивается, словно пожухлый, полупрозрачный осенний листок. Голос Фолкнера покидает его тело, ныряет в другой голос...
( любопытно отметить, что все бесконечно, осиротело-разъединённые герои романа, мыслящие и говорящие всколзь друг друга и мира, словно не замечая их, наедине с грозным, карим взором бездны в себе, говорят как в чистилище в одном патетическом тоне какой-то нездешней взрослости, лиричности скорби, приближения к небу, словно бы вся разъятая радуга голосов сложилась в один тихий луч того самого голоса, слова, томящегося в каждом из нас, но пробивающегося ростком лишь в бесконечном горе и любви, разрывая всё ложное и суетное в человеке)
Сердца, голоса, жизнь и смерть, в романе, словно голубой цветок газовой горелки, укручены.
Голубые цветы глаз матери - почти заглушены.
Её голос, тело, словно бы стыдятся смерти, обнажения души : стыдно смотреть на голую душу, на тело - так Замза в "Превращении" Кафки стыдился своего облика смерти,обнажения потусторонности, - словно мать, вот-вот разродится душой, небом : душа матери - голос бога, природы, автора, нежно вселяется, обнимает голоса сыновей, парит над ними птицами, журчит листвой...
Но люди слепы, они не видят, что природа - мать. Сыновья и муж не видят, как у сестры, дочери под блузкой грудь очертилась и дышит иначе - они не видят в ней женщину, мать, не видят эти "долины и горизонты земли" ( аллюзия Фолкнера на образ из "Песнь песней", - Лилии долины...
Но каждый из сыновей пытается понять что-то важное : глазами слушают мир, всей синей листвой глаз касаясь мира, смотря сощуренным ало слухом на мир... Все пять осязаний, пять детей, смешались, расплылись в трагической тьме : в прекрасном и яростном мире всё ярость и шум : вода и огонь ярятся, словно бы желая вырвать, избавить тело матери от мытарств..
Солнце, словно конь с розовой гривой зари, несётся сквозь ночь, - на нём, словно библейский всадник, едет Джул : он спасёт мать и от огня и от воды.
У водоёма вечера что-то невнятно мычит муж - он похож на быка, на Зевса, превратившегося однажды в быка, дабы похитить прекрасную Европу...
Но Адди изменила ему, изменила богу ( одна из мрачных, адовых спиралей романа : "непорочное" зачатие Марии, и измена мужу с "богом")
Одним из самых любимых романов Фолкнера ( и часто перечитываемых) был роман "Братья Карамазовы", и Фолкнер изумительно обыграл тему Достоевского в романе : всё мрачно перевёрнуто, словно в адовом зеркале : умирает, убивается миром, "всеми детьми", не отец, но мать. Братья заняты собой..
В некотором смысле, Дарла можно сравнить с Иваном, Вардамана-Кеша, - с Алёшей, Джула - с Дмитрием.
Голос самой Адди в центре романа, голос из ночи, когда она уже умерла, похож на легенду о Великом Инквизиторе из "Карамазовых" : женщина рассказывает историю своей жизни, муки и любви... Уже не Христос приходит к Инквизитору, священнику, но Инквизитор, лживый священник приходит к женщине, ибо голос женщины в мире - голос бога на земле.
Фактически, желая глотка неба и ночи, женщина, жизнь, символично из одной темницы, попадает в другую, ибо её, словно паук, обнимает не бог, но дьявол ( образ змеи, словно адова пуповина, связывает мать и Джула).
Земля поплыла... качнулись звёзды, листва бледных лиц и цветы. Земля крутится, мир - крутится, и всё повторяется ницшеанским вечным возвращением, но ещё мрачнее, словно бы на клубок Земли наматывается туго темно сверкающий шёлк орбиты. : муж Адди находит себе новую жену ( 10, дополнительный, обнуляющий круг Дантова Ада), дочка, Дьюи Делл, повторяет судьбу матери. Более того, её, беременную, насилуют : "я верю в бога! верю в бога!! верю в бога!!!", шепчут её глаза, губы и руки, бледной, опавшей листвой слепо ворочаясь по полу : её шёпот - шёпот всего человечества, пытающегося себя уверить, что бог - есть, ибо если его нет, можно сойти с ума от ужаса и безумия мира ( почти Андрее-Платоновский символизм акта жизни, как акта насилия над душой, над вечно-женственным в мире, красотой, и, как следствие - солипсизм затмения солнца новой жизни - луной насилия и смерти, т.е. мучительная невозможность бытия не только бога, но и человека на земле)
Словно бы повторяется мотив "Мамы" Даррена Аронофски, за одним исключением : сквозь роман красной, закатной нитью проходит образ пасхальных яиц - символ воскресения, - никому ненужных : пасхальные яички сердец, планет : голубые, красные...
Да, дочь повторит судьбу матери. Да, младший сын сошёл с ума, как и Дарл - самая честная реакция на ужас и боль мира : т.е. Дарл не выдержал голоса бога в себе и сошёл с ума, или же... бог в нём сошёл с ума, не выдержав человеческого горя. Кеш - станет священником : его голосом заканчивается роман, это пасторский, патетический тон Алёши в конце "Братьев Карамазовых".
Вся надежда лишь на 3 сына - на Джула : образ Христа, сына человеческого в осиротевшем мире, в котором умер Бог-Отец и Мать-жизнь, её смысл.