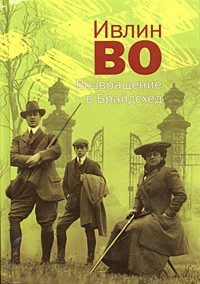Больше рецензий
20 июня 2017 г. 18:14
270
4.5 Воспоминания о поиске и нитках
РецензияУ нас есть только прошлое. Настоящее бывает собой одно мгновение, пока не становится прошлым — тем, что было секунду назад, потом минуту, час, день, год. И поймать это мгновение невозможно, помыслить его нельзя, разве что ощутить, и то настолько мимолётно, что, стоит возникнуть за этим чувством хоть обрывку мысли, и оно исчезнет. И будущее почувствовать нельзя — лишь предчувствовать, предугадывать, построить чертёжно в голове перспективу, проанализировав прошлое, составить некий план и прогноз, которые исполнятся частично — если не меньше этого, — сколько ни думай, как ни крути вероятности: слишком уж многое не в нашей власти. Если предсказать войну и даже её исход, не удастся назвать точно, кто её переживёт, а кто нет. По ребёнку не скажешь, будет ли он счастлив в браке. Не назовёшь дату, когда дружба кончится, а любовь увянет, даже если заранее чувствуешь, что это произойдёт. А смерть близкого поразит, несмотря на то, что она не внезапна — её предваряет долгая и неизлечимая болезнь.
У литературы так же есть только прошлое. Даже утопии, антиутопии, фантастика не повествуют о будущем, а только показывают его модель, построенную на основе прошлого. И в результате описываемое — далёкое или нет, пророческое или нет — будущее получается всего лишь прошлым, отражённым в кривом зеркале и разрисованным фантазиями вокруг рамы этого зеркала.
Сама жизнь — это движение по прошлому не к будущему даже, которое навсегда останется будущим и которое не уловишь никак, а к настоящему. И в этом настоящем есть только прошлое, есть только воспоминания.
Подзаголовок «Возвращения в Брайдсхед» Ивлина Во — «Священные и богохульные воспоминания пехотного капитана Чарльза Райдера». Военный батальон вместе с ротой Чарльза переброшен в замок Брайдсхед — в место, где, как ему уже не раз думалось, он больше никогда не окажется. И Чарльз — бездомный, бездетный, немолодой, никем не любимый мужчина — рассказывает о том единственном, что у него по-настоящему есть — о прошлом.
И его прошлое неразрывно — хоть и есть в нём годы, когда он о них почти не слышал, — связано с семьёй Флайт. Не зря начинает свои воспоминания Чарльз не с детства, не со школы, не со своей семьи, хотя позже об этом мельком — а так ли это важно? — будет сказано, а с Себастьяна Флайта — эксцентричного богача, имеющего не самую лучшую репутацию, собирающего у себя дома шумные, порицаемые приличными студентами компании — самым ярким пятном в них оказывается Антони Бланш, лёгкий, всезнающий, искренний почти до невыносимости, не принимающий, кажется, участия в жизни Чарльза, но пересекающийся с ним и позже не раз, — и таскающего с собой плюшевого медведя Алоизиуса. После знакомства с Себастьяном Чарльз окунается в свободную, безрассудную юность, которой дышит полной грудью, тогда ещё не зная, что «et in Arcadia ego», что наслаждение мимолётно, счастье временно и всё проходит, а хорошее в особенности.
Себастьян умеет замечать мелочи и ловить мгновения — идёт в Ботанический сад смотреть на плющ, берёт машину у приятеля, чтобы поехать выпить бутылку «Шато-Перигей» с земляникой и навестить немолодую няню, шутит про плюшевого медведя, который всегда с ним, дегустирует вина, шутливо описывая — вино как газель, как малютка эльф, как флейта, как пророк, как последний единорог — их вкус, пишет письма ни о чём, говорит, что ему неважно, когда дом построен, важно, что он красивый. И в этой лёгкости и умении жить сейчас заключается большая часть обаяния Себастьяна, по крайней мере, именно та часть, которая привлекает Чарльза. И Чарльз замирает вместе с ним в этом «сейчас», не думая, а чувствуя, не осознавая, что оно по-настоящему сейчас, что такого — беззаботного и настолько живого в его жизни больше не будет. Что это не конечная точка поиска, а, наоборот, его начало.
Себастьян влюблён в своё детство, в бесшабашность и в свободу. Он за то не любит мать, властную и религиозную, что чувствует в ней угрозу именно своей свободе. Поводка ещё нет, а он уже срывается с места, чтобы предать доверие и из-за этого получить поводок. И рваться с него ещё сильнее и рьянее. И остаётся тогда только ощущение, что не на месте, чувство, что не понимают, душат, держат, давят-давят... И вот уже медведь Алоизиус пылится на полке, особняк ещё более ненавистен, чем раньше — тогда, когда уже не был его домом, а был домом, где живёт его семья, — до плюща нет дела и до много чего дела теперь нет, и друг Чарльз кажется шпионом матери, выбравшим её сторону, и не важно уже, что именно пить, важно — пить. И бежать.
И больше не будет никакой Аркадии на двоих. У Себастьяна на душе не противоречие даже, а полная неразбериха, и в этой неразберихе он ищет себя, напиваясь и срываясь с места, стремясь от одних людей к другим. А Чарльз не думает, что ему нужен какой-то поиск. В нём нет того мятежного духа, что кроется в Себастьяне, — он в каком-то роде истинно по-английски чопорный, невозмутимый и ироничный. Может, он не ищет Себастьяна, не следует за ним, оставляет его именно потому, что тот теперь другой и с ним не может быть как раньше?
После расставания с Себастьяном и прежде чем снова встретить его сестру Джулию Чарльз живёт десять мёртвых лет. Абсолютно покойных, если не считать коротких проблесков чувства за мольбертом, когда он пишет свои картины. И те с годами случались всё реже и реже.
И не только в течение этого времени, не только в жизни самого Чарльза, но во всём романе «Возвращение в Брайдсхед» нет ничего по-настоящему встряхивающего, и, может, как раз поэтому от него качает и мутит знатно — не резко, но долго и постепенно. Даже шторм, в который попадает Чарльз со своей женой и вновь встреченной Джулией, не представлен разрушительной, губительной стихией, он шумит где-то за пределами парохода, трясёт только, вызывая у большинства морскую болезнь и качкой провоцируя нелепые — в основном в ванных комнатах — травмы. Шторм оказывается не больше, чем неудобством, а в случае Чарльза и Джулии счастливой возможностью побыть вместе, узнать друг друга, — заново или сначала? — пока большинство скованы тошнотой.
Так и в героях нет шторма, их только качают ветер и волны, и внутри что-то болтается, как двери на пароходе, которые долго не могли зафиксировать, но не рушится, не грохочет, а после просто замирает или так и остаётся в этом неловком, почти подвешенном состоянии.
Увидев, что Рекс ездит к Бренде Чэмпион, и осознав свою влюблённость, Джулия плачет десять минут, а потом воспоминает, что голодная, ест и спокойно ложится спать. Рекс не понимает, что такого в том, что и после свадьбы он продолжает ездить к Бренде, Рекс и свадьбу задумал ради выгоды — не совсем корыстно, но выверено-продуманно, — измена и развод не вызывают у него сильных чувств, он ощущает разве что неудобство, только потому что не вовремя, у него и так много дел. Чарльз женился просто потому, что Селия была подходящей женой, он её не знает толком, она для него не Селия даже, не личность, хоть чем-то особенная, а просто «моя жена», будто больше ничего примечательного в ней нет. Её измена его успокаивает, — значит, нестрашно, что он её не любит, — и при разногласиях она плачет, но не злится, а потом и не плачет больше вовсе, и на его неверность ей плевать, а ему нет дела до их детей. Никакой бури. Никакого напряжения.
Весь роман состоит будто из подступов к катарсису. И каждая сюжетная линия-нить — блестящая, обаятельная, самая натянутая нить-леска Себастьяна, тонкая, но прочная шёлковая нить Джулии, добротная Корделии, бечёвка Брайдсхеда, — разматывается из клубка, чуть натягивается руками автора, и ждёшь — вот-вот, вот-вот, вот...
Крик — почти срыв — молодого Себастьян, его обвинения, — выбрал сторону матери, её шпион, — брошенные в лицо Чарльзу, натыкаются на Чарльзово спокойствие и приводят потом к извинениям Себастьяна и его отъезду. Плач Джулии у фонтана кончается будничными разговорами за столом, её злость ночью, встреченная Чарльзовым спокойствием, быстро гаснет. Даже самые натянутые нити так и не рвутся. Только расслабляются и, вялые, остаются в прошлом, далеко от Чарльза с его непонятного цвета хлопковой нитью, тянущейся и тянущейся так долго, что понимаешь: это не напряжение, просто её не держат и не фиксирует, она скользит в руке, разматываясь постепенно и размеренно.
Чарльз думает, что мог бы сказать своему кузену-снобу, что корень мудрости в том, чтобы знать и любить другого человека, только не видит в этом смысла. Но так ли просто другого человека любить и тем более знать? Может, потому Чарльзовой мудрости, несмотря ни на точно подмеченные детали, ни на логичные рассуждения и выводы, чего-то не хватает. Не хватает проницательного понимания, не хватает действий, которые он мог совершить. И не хватает чувств. У Чарльза достаточно мудрости, чтобы помыслить любовь, чтобы принять её, какой бы она ни была — нежной дружбой с Себастьяном или страстью и привязанностью к Джулии, — но не хватает сил, чтобы удержать Себастьяна и чтобы удержать Джулию. И неважно, был ли Себастьян предтечей Джулии или в Джулии позже он видел Себастьяна: с обоими Чарльза разводит не конфликт внешний, друг с другом, а конфликт внутренний — то, что происходит в сознании — или можно сказать «в душе»? — не его даже, а Себастьяна и Джулии. Оба ищут себя, и обоим Чарльз не может, да и не пытается помочь в этих поисках. И с обоими он не готов искать вместе. И оба остаются для него всё в более далёком прошлом.
Себастьян, как и его отец, который ушёл от жены и живёт с любовницей, бежит прочь, потому что ему плохо и потому что стыдно за то, что плохо и ничего он поделать с этим не может. Некогда его отец сражался за свободу — от невинности, от Бога, от жены — и победил. Только эта победа оказалась совершенно спокойной, отшельничьей, ничего в ней не было славного. Но именно такой ему было достаточно, и он смог остановиться, потому что любовница Кара не связывала его, не надевала на него поводок, от которого можно было бы — и нужно — бежать с помощью алкоголя и собственных ног.
Себастьян же сбежал, но так и не нашёл себя. Ни просто в бутылке, ни в жизни вдали от родных, ни в заботе о ком-то ещё более ничтожном, ни в вере. А была ли она у него, это вера? Корделия, его сестра, позже расскажет Чарльзу о том, как Себастьян в Тунисе ходил к монастырю, но алкоголизм не позволил ему стать послушником, Корделия пророчествует ему жизнь сторожа, жизнь человека веры, пусть и слишком слабого, чтобы бросить выпивку. Но действительно ли нашёл себя в вере полукатолик-полуязычник Себастьян? Он прекратил бежать, но закончил ли искать? Можно ли вообще считать, что этот поиск имеет конец? А тем более имеет конец для такого человека, как Себастьян.
В какой-то степени его приход к стенам монастыря — это попытка свести сюжетные нити героев воедино, сплести их ниткой-религией, попытаться стянуть в разрозненный, но пучок. Другое дело, что более неуместно, чем леска Себастьяна, из этого пучка торчат только нити его отца, перекрестившегося и позволившего себя причастить перед смертью вряд ли от чего-то кроме страха, и Чарльза, тоже поймавшего этого страх смерти у смертного одна лорда Марчмейна и бесконечно уставшего от своего собственного, неосознанного толком поиска, правда, не такого явного, не такого горячего, что его нужно, заглушая, заливать ещё более горячительным алкоголем.
Джулия приходит к вере самым логичным образом. Вся её жизнь с детства связана с католичеством, но не подвержена ему полностью, она, как брат Себастьян, полукатоличка-полуязычница. Отвергая религию, Джулия всё равно думает о ней — спасение, Бог, катехизис, Христос, раскаяние, грех, грех, грех, — она чувствует свою вину, ощущает себя грешницей, и её не отпускают эти мысли, пусть и не проявляясь явственно и не муча. Она хотела бы воспитать дочь католичкой. Не найдя себя в вере, она желала бы, чтобы другие в ней себя нашли, в отличие от — сначала просто, а после усомнившегося — агностика Чарльза, который готов вести богословские споры в попытках понять, почему люди верят, отстаивая свою точку зрения, но не отвергая религию и не относясь к ней с пренебрежением, как бывший муж Джулии Рекс. Если жизнь Себастьяна — это путь к себе, то жизнь Джулии — путь к Богу. И предавая Его религию, она не может избавиться от мыслей о Нём. Совершая нечто предосудительное, по меркам религии, она не может не думать об этом. Потому её решение не опускаться дальше, поставить точку и не выходить замуж за Чарльза не обрушивается как гром среди ясного неба. Просто Джулия — печальная, некогда несчастливо замужняя, потерявшая ребёнка и обоих родителей — действительно, наконец, нашла.
Нитка-религия с самого начала путалась среди сюжетных ниток членов семьи Флайт. С того момента, как лорд Марчмейн принял ради жены католичество и в подарок ей построил часовню, а после сбежал, сбрасывая эту нить, но оставляя её на детях.
И, какой бы ни была вера этой семьи, она неизменно делает каждого из них несчастными. Особенно Джулию и мятежную душу Себастьяна. Старший же сын Брайдсхед и младшая Корделия не ищут себя или Бога. У Брайдсхеда, поздно женившегося, строившего в юности планы, но ни один из них не воплотившего в жизнь, совершенно спокойного, почти до бесчувствия, и мыслей об этом нет, он живёт так, как заведено, как правильно. А Корделия верит настолько, что у неё нет сомнений, в юности у неё есть только искренняя любовь к близким — да и ко всем людям, — а позже любовь и усталость. Их не иссушал поиск, как Себастьяна и Джулию, они, можно сказать, нашли с самого начала себя, вот только это всё равно не принесло им счастья, зато, может, дало покой.
При всём при этом в романе нет действительно трагических событий. Война, и та идёт где-то на фоне. Первая мировая — только в рассказах о трёх героях, братьях — больше всего она вспоминает Нэда — леди Марчмейн. Вторая — сначала, приближаясь, проявляется в разговорах Рекса с единомышленниками, кажущихся смешными и мелкими в сравнении с огромной пропагандой в Германии, запустившей машину геноцида. Но и в прологе и эпилоге, действие которых происходит позже остальных событий, в 1943 — или 1944 — году, война всё равно остаётся за кадром: главный герой, будучи пехотным капитаном, со своей ротой находится в тылу, и солдаты по большей части прозябают в бездействии, ожидая, когда их направят, собственно, в зону военных действий, чтобы хоть раз побывать в деле. Самая яркая история про гитлеровскую Германию — мимоходом рассказанная история Курта, приятеля Себастьяна, о котором он заботился, когда тот был болен, и который после попал снова на родину, а за этим — в концентрационный лагерь, где повесился.
Основные события «Возвращения в Брайдсхед» происходят в двадцатых-тридцатых годах XX века. От Первой мировой войны остались только герои. О Второй — ещё никто и не помышляет. Во время забастовок из знакомых Чарльза страдает только один — и тот потому, что — это звучит почти нелепо — ему на голову женщина сбросила цветочный горшок.
В этом романе действительно нет напряжения, взрыва и трагедии, но в нём есть история медленного упадка одной аристократической семьи, на примере которой можно увидеть и многие другие подобные семьи. Так же, как Чарльз рисует сначала — самый яркий и особенный — Марчмейн-Хаус Флайтов, которые на днях собираются сносить, но потом создает череду полотен, изображающих старые особняки — всю старую Англию, что уходит — своим чередом — в прошлое. Мечтам Корделии о первом бале в Марчмейн-Хаусе сбыться не суждено. А Брайдсхед оказывается заполнен солдатами: одно разбившими, другое развалившими и бросающими в некогда великолепный фонтан окурки.
Автор катает клубки с нитями героев: по большей части по-разному эксцентричных. Среди них затворник отец Чарльза, расстроившийся, потеряв жену, но наслаждающийся своим одиночеством. Он не всегда замечает сына, когда тот дома. И высказывающийся неизменно честно обо всём и всех, с хитрецой ведёт себя с Чарльзом. Когда тот, порядком истратившись, собирается провести дома у отца каникулы, отец устраивает целую кампанию, направленную на то, чтобы выдворить его прочь.
Среди них любовница лорда Марчмейна Кара, немолодая, но с удовольствием отправившаяся с Себастьяном и Чарльзом осматривать достопримечательности. Потом наедине с Чарльзом она называет отношения его и Себастьяна романтической дружбой, много говорит о Себастьяне, лорде Марчмейне и его бывшей жене, а ещё считает, что любовь, которая приходит к тому, кто ещё не понимает её значения, лучше к мальчику, чем к девочке.
Есть ещё няня Хокинс, неизменно сидящая в бывшей детской, плетущая кружево, всё про всех знающая, хотя и не выходящая, и, кажется, нестареющая. Антони Бланш, непонятной национальности и непонятно чем вообще занимающийся по жизни, почти не видя Чарльза, знает о нём подчас больше, чем он сам. Мистер Самграсс, которого леди Марчмейн попросила приглядывать за Себастьяном и который спускал ему насмешки и даже звонки, чтобы спеть вздорные, оскорбляющие песни, вскоре оказывается некомпетентен в этом вопросе и отлучён до дома. Курт, шепелявящий, с гноящейся раной на ноге, привязан к Себастьяну, который о нём заботится, находя удовольствием именно в том, что заботится он сам, а не кто-то — о нём. Ищущий свободу и бегущий от чужого поводка, Себастьян затягивает на чужой — с готовностью подставленной — шее свой.
На их фоне Чарльз не выделяется, ему даже в молодости не удаётся эпатировать своего кузена, сказав ему, что непременно выпивает днём шампанского. Чарльз ведёт совершенно обычную жизнь, относясь ко всему с некой иронией и юмором, зачастую довольно мрачного оттенка.
Время идёт — воспоминание за воспоминаем Чарльза, — умирает леди Марчмейн, уже не молодая, а позже её пожилой бывший муж лорд Марчмейн. И это не потрясает, хотя вызывает грусть: прошлое неизменно остаётся в прошлом.
Так и не разрядившаяся напряжённость натягивает и нервы читателя, и кажется, ждёт что-то ужасное молодых Флайтов, что-то не закономерное, как смерть в преклонном возрасте. Но ничего этого не происходит, даже мятежный Себастьян по-прежнему жив, хоть и не здоров и пьёт вдали, в Тунисе. Один.
Джулия разведена с мужем, не осталась с Чарльзом, так и не родила. Корделия избрала свой путь помощи людям, не думая о создании семьи и личном счастье. Брайдсхед поздно женился на вдове с тремя детьми. Жизнь развела их — может, не самую крепкую, но некогда довольно близкую семью. И каждого оставила с чем-то, но с чем-то маленьким. И в этом чувствуется поразительный трагизм — в том, что именно так, постепенно, почти незаметно уходят в прошлое аристократические семьи и просто уходят люди, оставаясь только чьим-то воспоминаньем. Уходят и оставляют место для новых людей. И есть надежда, что не только для таких, как Рекс, честолюбивый и бесчувственный, являющийся лишь частью человека, по мнению Джулии, и не таких как солдат Хупер, ставший для Чарльза воплощением Молодой Англии — совсем не романтик, совершенно простой человек, думающий не об истории, а о современном промышленном прогрессе.
Поразительно, но из главных героев только Чарльз может оставить что-то после себя: свои картины, многие из которых сам же считает ерундой, и детей, к которым совершенно не привязан и о которых не скучает. Разве в выгодном он положении? Едва ли.
Уходит одно — весь этот лоск и пышность, но другое может остаться или даже вернуться, как открылась давно закрытая часовня, словно возродившись.
И в этой часовне больше не веры даже, а надежды, что так могут возродиться все: и Чарльз, снова живущий в армии мёртвые дни, и Джулия, вернувшаяся к Богу и отправившаяся помогать медсестрой людям на фронте вместе с Корделией, и — где-то далеко — Себастьян.
И в то, что в своём поиске Чарльз находит Бога, не так верится, как в то, что он обретает надежду.
Надежду на то, что в покинутое место можно вернуться, чтобы снова ощутить «сейчас», почувствовать настоящее, которое сразу же станет прошлым.