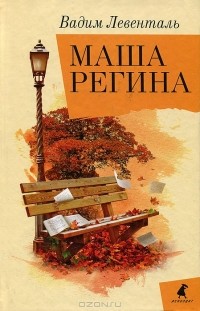Больше рецензий
22 июня 2013 г. 20:20
360
5
РецензияРоман есть биография Художника — русской девушки-кинорежиссера («латинская» фамилия, возможно, намекает на то, что прототипом Маши была Валерия Гай Германика), чья взрослая жизнь состоит из работы над фильмами (регулярно получающими призы, вплоть до Каннского) и чередования коротких моментов любовного счастья — с гораздо более продолжительными периодами трагедии; причем с возрастом диспропорция все более увеличивается. Вокруг Маши лунами всю жизнь кружатся трое мужчин — ее школьный учитель литературы, ее школьная любовь и немолодой немецкий актер. Это, однако ж, не роман о девичьих сложностях выбора — а история о гениальном художнике, о сути искусства и о поисках абсолютной художественной истины. Об аномалии («Маша Регина» в каком-то смысле похожа на сергей-самсоновскую «Аномалию Камлаева»), которая рушит наши представления о траекториях души и границах дозволенного познания истины. О том, что жизнь — ужасно, до смешного, трагична, и тем, чье зрение позволяет видеть эту трагичность отчетливее, приходится гораздо хуже, чем обычным людям. О городских пространствах — Петербурге и Берлине, — которые могут сформировать Художника и входить в резонанс с его счастьем и отчаянием. В худшем случае в пересказе это все кажется пошлостью (за-талант-приходится-расплачиваться-несчастной-личной-жизнью), в лучшем — чем-то средним между формановским «Амадеем» и «Защитой Лужина»; на самом деле ни то ни то. Надо быть таким рассказчиком, как Левенталь, чтобы транслировать историю этой жизни.
Тут не просто «умелый рассказчик», «опытный раконтер»; тут чувствуется рассказчицкое, иначе не скажешь, величие; когда очевидно, что рассказчик мудрее, всеведущее, всесильнее даже своей гениальной героини — и, сам зная, что он единственный, кто может доставить ее тайну читателю, не то что не заигрывает с ним, а, наоборот, ведет себя несколько высокомерно и уж точно не унижается до выстраивания чего-то вроде «занимательного сюжета», «интриги»; это все ненужно, когда у вас есть героиня, которая заведомо трагичнее, сложнее, тоньше любого читателя беллетристики; героиня, чей внутренний мир представляет собой огромный, геометрически сложный собор, настолько поразительно совершенный, что каждое новое слово, каждый акустический сигнал, каждая эманация этого совершенства воспринимается как благо. У такого рассказчика есть право изъясняться длинными, в страницу, фразами; право озадачивать ребусами, до смысла которых нипочем не докопаться («…она рассчитывала на то свойство памяти, по которому с материализацией призраков прошлого оживают (несмотря на то что призраки ничуть на себя не похожи) в абсолютной, хотя и объективированной точности наши собственные чувства — которые ей при работе над «Чумой» как раз и были нужны. Хвала вечному кенигсбергскому девственнику, мы-то знаем, что единственная хитрая рифмовка, которая тут есть, в меру сил пытается быть отголоском набоковской»); право отказаться от одной формы времени в повествовании — и использовать сразу все, попеременно («Маша сорвалась», «Маша срывается», «Маша сорвется»), имитируя то сухой отчет, то «художественную» биографию, то прямой репортаж, то элегию в прозе. У Левенталя слух зрелого поэта, легкие молотобойца и ум молодого математика; не остроумие, а ум именно, мудрость философа; это Мастер, настоящий, калибра раннего Битова; никогда не скажешь, что это дебютный роман человека, которому 31 год. Из Петербурга; это, пожалуй, кое-что объясняет.