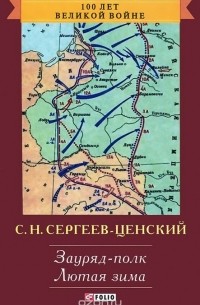Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Зауряд-полк
Глава первая. Миллионы
Только что кончился первый месяц мировой войны, когда в канцелярии одной из ополченских дружин, расположенных в Севастополе, с утра сошлись: заведующий хозяйством подполковник Мазанка, командир роты, поручик Кароли, адвокат из Мариуполя, грек, и недавно прибывший в дружину, назначенный начальником команды разведчиков, прапорщик Ливенцев, призывом в ополчение оторванный от работы над диссертацией по теории функций.
В приказе по дружине было сказано, что они трое в этот день должны были, как члены комиссии, обревизовать месячную отчетность эскадрона, хотя и причисленного к дружине, но стоящего где-то в отделе, а где именно – этого не мог объяснить им командир дружины полковник Полетика. Впрочем, этот странный человек редко что мог объяснить, и теперь он, коротенький, бородатый, голубоглазый, близкий к шестидесяти годам, но больше рыжий, нежели седой, сидя у себя за столом в кабинете, говорил им:
– Так вот, красавцы, вы уж там смотрите, наведите порядок у этого ротмистра… вот черт, – совсем забыл, как его фамилия!.. Лукоянов, а? Или Лукьянов? С усами такими он черными.
– Лихачев, кажется, – сказал Мазанка.
– Ну вот – конечно… конечно, Лихачев!.. Вы там хорошенько… Кстати вот тут у вас один красавец – математик. Он сосчитает, что надо. На Северной стороне это… эскадрон этот… Туда поедете…
– На Северной? Я что-то не видал на Северной кавалерии… – качнул серой от проседи головой долгоносый Кароли, очень загорелый, почти оливковый, приземистый и излишне полный.
– На Северной артиллерия, – сказал Мазанка, – а кавалерия наша, кажется, в Балаклаве…
– Вот, черт знает, «кажется». Заведующий хозяйством должен знать, а не то чтобы «кажется»! В Балаклаве же, конечно, а не… не на этой, как ее называют?.. На Северной! Не на Северной, нет, а, разумеется, в Балаклаве.
И даже как будто рассердился немного Полетика, а Ливенцев, еще не привыкший к нему и удивленно его наблюдавший, с наивностью кабинетного человека, имеющего дело с точными и строгими рядами формул и цифр, поднял брови, присмотрелся внимательно к своему командиру и сказал весело:
– Вообще, господин полковник, этот таинственный эскадрон надо во что бы то ни стало разыскать и… распечь за то, чтобы он не прятался!
Высокий, с подстриженной бородкой, еще не старый, темноволосый, говоривший певучим тенором, единственный из трех, красавец Мазанка посмотрел на Ливенцева неодобрительно, но Полетика думал, видимо, о другом и даже не расслышал того, что сказал этот худощавый, но крепкий, со стремительным профилем прапорщик, он копался в это время в бумагах и бормотал:
– Шоссе… шессо… шессо́… Сколько там шессо? Двенадцать верст?.. До Северной… то есть до Балаклавы… Возьмите линейку, кучер вас довезет.
– А когда вернемся – вам доложить? – спросил Мазанка.
– Доложить? Гм… Доложить-доложить, – а что тут такое докладывать? Напишите рапорт по форме, – там посмотрите, как это пишется, по какой форме… Доложить!.. Будто там вы у него обнаружите что-нибудь, у этого ротмистра… Лоскутова… Я его видел, помню… Усы такие длинные, черные… Ну, идите, черт возьми, что же вы стоите?.. Куда-то девал пенсне, а без пенсне я как… как баба без юбки…
– Вот пенсне! Под бумагами, – подал ему пропавшее пенсне поручик Кароли, и все вышли из кабинета, а прапорщик Ливенцев, выходя, любопытно обернулся на этого командира тысячи человек ополченцев и шепотом спросил Кароли:
– У него что такое? Размягчение мозга?
На что Кароли, – он был тоже веселый человек, – ответил:
– Накажи меня бог, – его надо сделать начальником штаба при верховном главнокомандующем на место генерала Янушкевича!
Канцелярия была унылая, насквозь прокуренная комната, дощатой перегородкой отгороженная от остального длиннейшего каменного сарая, принадлежавшего порту. И столы и скамейки в канцелярии были кое-как сколочены из плохо оструганных досок, причем больше всего привлекла внимание Ливенцева в первый день, как он здесь появился, надпись крупными, старательными готическими буквами на деревянной перегородке: «Приказист», и под этой надписью другая, на спинке какого-то подобия стула: «Стул приказист». Это странное слово очень смешило Ливенцева.
Ополченцы за перегородкой размещались просто на полу, на соломе. Ходили они в своей одежде; винтовок им не выдавали: были только учебные, служащие для практики в разборке и сборке, и то не трехлинейки, а берданки. Впрочем, усиленно говорили в штабе крепости, что скоро прибудут откуда-то японские винтовки времен русско-японской войны. Ввиду строжайшего запрещения каких бы то ни было отпусков по три-четыре человека из роты пропадали ежедневно в самовольных отлучках, и Ливенцеву приходилось производить каждый день по нескольку дознаний и изобретать для провинившихся ополченцев обстоятельства, смягчающие их тяжкую вину, так как уходили отцы семейств, больше чем сорокадвухлетние степенные дяди, схваченные мобилизацией на полях и не успевшие распорядиться по хозяйству. Они оборачивались за несколько дней, сами понимая, что уж раз запрещено, надо спешить, и умоляюще глядели в глаза Ливенцеву, давая свои показания.
С крутого берега над портовыми сараями видна была вся бухта с боевыми судами и внешний рейд с тральщиками и сторожевым крейсером. В первый день, как приехал сюда Ливенцев, все боевые суда были густо обвешаны матросскими рубахами и подштанниками, так как был день мойки белья, и смешливый Ливенцев долго хохотал над таким преувеличенно мирным видом грозных судов.
Стоял золотей сентябрь. Погода была великолепная. Всюду валялись арбузные и дынные корки. И хотя прапорщика Ливенцева стесняла шашка, которая все съезжала наперед и норовила попасть между ногами, и хотя очень надоедало то, что все время надо было подносить руку к козырьку, принимать или отдавать честь, все же куча свалившихся на него обязанностей, самых неожиданных и большей частью для него непостижимых, занимала его чрезвычайно; с непривычки к такой суете он к вечеру очень уставал и тупел. Главное, его, до призыва имевшего дело только с безмолвными рядами математических выкладок и с очень молчаливой старухой-матерью, вдруг бросило в людской водоворот, причем одни люди зависели от него, от других зависел он сам, а третьи, ничего не понимавшие в теории функций, вдруг почему-то оказались его товарищами.
Он не успел еще отвыкнуть от того, что считал важнейшим своим делом, и привыкнуть к мысли, что самое важное теперь, даже и в его жизни, как и в жизни всех кругом, вот эта самая, месяц назад начавшаяся война. Его еще не прищемило войной даже до боли, в то время как для миллионов кругом война была уже смерть. И хотя каждый день читал он газеты и телеграммы с театра военных действий, все-таки он представлял себе то, что там делается, только так, как это писалось в донесениях: наши войска победоносно наступали в Галиции, брали один за другим города, и десятки тысяч пленных, и огромные стога снарядов, стоявшие на австрийских полях, и как будто ничего не теряли сами, – прогулка, феерия!.. Как и всем кругом, читавший только русские газеты, ему казалось, что война для Австрии дальше уже немыслима, остается только просить пардону, что месяца через два немецкие державы заговорят о мире, а он снимет эту чрезвычайно неудобную шашку и снова засядет за диссертацию вплотную и закончит ее в назначенный себе самому срок, если начнет работать усерднее и наверстает потерянное время.
Походка у него была с неверным постановом ног и ныряющая – всем корпусом и особенно правым плечом – вперед.
Так как теперь, когда они трое шли к ожидавшей их линейке, было еще утро и он не успел устать, то все кругом было ярким для его глаз: и блеск солнца на отшлифованных подковами и железными шинами булыжниках мостовой, и пара сытых, но секущихся серых лошадей в линейке, и зеленый овод, вившийся над лошадьми, и даже то, что фамилия кучера-ополченца оказалась Блощаница.
И когда они уже ехали, выбираясь из провалья к базару, чтобы попасть оттуда на Балаклавское шоссе, немолодой уже, долговязый белобрысый офицер верхом на прекрасном гнедом белоногом коне попался им навстречу, и Мазанка крикнул ему:
– Корнет Зубенко! А мы к вам!
Корнет остановил коня, Блощаница придержал свою пару серых, и Ливенцев тоже узнал корнета, – они познакомились дня два тому назад на Нахимовской просто потому, что одни и те же буквы – инициалы названия дружины – и цифры были на их погонах, но Ливенцев думал, что он артиллерист. Мазанка певучим своим тенором говорил Зубенко:
– Про вас я совсем забыл! Ведь вы в эскадроне у Лихачева!
Гарцуя около линейки, Зубенко, человек очень скромного вида, даже как будто застенчивый, вообще не потерявший еще способности краснеть, толстощекий и красногубый, пожал всем троим руки широкой в запястье рукой и спрашивал удивленно:
– К нам? Зачем к нам? Ревизовать отчетность! Вот как!
– Правда, это больше касается ротмистра Лихачева, чем вас… А конек у вас славный! – говорил Мазанка.
– Горячится… Но я все-таки приеду, – у меня тут сегодня немного дел… Фураж замучил… Вот только узнаю насчет сена, и назад… Конечно, ведь вы и обедать будете там у нас? Я к обеду поспею приехать… Всех благ!
И они разъехались, и, следя за его посадкой, Кароли сказал презрительно:
– Э-э, корнет тоже, а сидит – как собака на заборе!.. Накажи меня бог, все эти, из отставных которые, ни к чертовой матери не годятся.
А Ливенцев заговорил оживленно:
– Господа! Вот какая штука! Я было забыл совсем: наш доктор Моняков что сказал мне об этом корнете… Дело было на Нахимовской, дня два назад. Стремлюсь зайти в магазин, купить колбасы. Попадается на улице вот этот, как оказалось, корнет Зубенко. Вижу по погонам – наш брат! Сказали друг другу по два теплых словца. «Давайте, говорю, в магазин зайдем, по фунту колбасы купим». Как шарахнется от меня мой корнет Зубенко! «Что вы, говорит, колбасы! Теперь колбаса уже стала восемь гривен фунт. То есть, я о чайной говорю, о двадцатикопеечной, а к другим сортам и приступу нет!..» И от меня тягу! Я смотрю, – тужурка на локте заплатана, и так весь вид какой-то потертый хотя и не голодающий отнюдь. Думаю: может быть, семейство большое, – нуждается… А тут сзади наш доктор подходит, Моняков, говорит: «Это кто такой от меня помчался?» – и вслед корнету смотрит. «Почему, спрашиваю, от вас, а не от меня?» – «Потому что вы его не знаете, а я знаю!» – «Если даже он вас обокрал, доктор, простите ему, говорю, ради его бедности!» Доктор мой даже рот разинул. «Как так „бедности“! – кричит. – Да у него шестьдесят тысяч чистого дохода с одних только недр! Французы ему аренды за антрацит платят! А имение-то три тысячи десятин, – дает оно что-нибудь или один убыток?»
– Как три тысячи десятин? – спросил Мазанка.
– Как шестьдесят тысяч доходу? – одновременно спросил Кароли.
– Не знаю уж как! Оставляю это на совести доктора.
– Это миллионное состояние, что вы!.. – возмутился Кароли. – У такого чтобы миллионное состояние? Не может быть! Шестьдесят тысяч, считайте даже по шесть процентов, – вы математик, не будете спорить, надеюсь, что в земле у этого Зубенко миллион!
– А три тысячи десятин земли, – если черноземной, под пшеницей… И не заложена… А какой ему смысл ее закладывать, шестьдесят тысяч получая?.. Как вы эту землю считаете? По триста пятьдесят, меньше продать нельзя… Вот вам еще миллион! – подсчитал Мазанка.
– Выходит, два миллиона! Вот поди же! – удивился теперь и Ливенцев.
– Накажи меня бог, я бы такого и в письмоводители к себе не взял! А у него состояния два миллиона!
– Да ведь, может быть, все пустое, – счел нужным утихомирить Кароли Ливенцев. – Доктор наш ведь земец, поэтому радикал… И чуть что – кричит: «Это вы прочитаете во „Враче“!» Корреспондент, видите ли, журнальчика «Врач»… Наверное, он здорово преувеличил.
– А ротмистр Лихачев не из тех ли мест, где станция «Лихачево»? – спросил Кароли Мазанку.
Но на этот вопрос ответил не Мазанка, а кучер – Блощаница. Он сидел на передке, устроив ноги по сторонам дышла, но при вопросе Кароли обернул рябое бородатое лицо к нему в упор и сказал с радостной ухмылкой:
– Это же, вашбродь, ихнее имение там и есть, а как же!.. И даже там у них при воротах две пушки стоят…
– Пушки даже? Вот как? Очаковских времен?.. А именье богатое?..
– Именье выдающее!.. Я эти места хорошо знаю… Я у господ Подгаецких, поблизу, служил в кучерах, и сколько разов я их к Лихачевым в гости возил!..
Выехали, наконец, на шоссе. Зажимая носы, проехали мимо свалок. Потом стали попадаться по обеим сторонам шоссе какие-то небольшие усадебки с виноградничками, садами и даже небольшими клочками стерни по известковому овражистому плато.
– Вот где люди пшеницу сеют, – где самая крейда, або алебастр, – кивнул на эти клочки стерни Блощаница. – А что касается Лихачева-помещика, то у него с десятины если не полтораста пудов снимают, то бывало даже и так, что все двести!
И пока ехали до Балаклавы, – Ливенцев это видел, – никак не могли успокоиться ни подполковник Мазанка, ни бывший адвокат, поручик Кароли, ни даже кучер Блощаница.
В имениях и десятинах, – много ли их или мало, – ничего не понимал Ливенцев. Ему было тридцать семь лет, но он как-то так расположил свою жизнь, что ничего не пытался сделать в сторону десятин, имений, угольных копей, миллионов, даже просто сколько-нибудь прочных условий жизни. Он даже и не служил нигде в последнее время, а жил случайными уроками, и меньше всего в жизни понимал он то, что было предметом внимания многих: богатство.
Он вышел из семьи, в которой никогда не было того, что называется достатком, и в то же время никто не говорил ни о бедности, ни о богатстве. Отец его был пианист, он тоже в молодости неплохо играл и даже колебался, когда окончил гимназию, куда ему поступить – в университет или консерваторию, и, среди колебаний этих, поступил вольноопределяющимся в пехотный полк, чтобы отбыть повинность. Потом затянул он и студенческие годы, так как три раза менял факультеты. Он был холост. Мать-старуха нуждалась уже не во многом. Он, как говорится, легко относился к жизни. И в то же время, как многие кабинетные люди, любил вплотную наблюдать людей, то есть буквально вплотную, очень приближая свое лицо к каждому новому лицу, хотя близоруким он не был.
У него было большое любопытство к человеку, как совершенно неповторимому среди других человеческих особей существу. Возможно, что это было в нем просто пифагорейство, но он как-то про себя вычислял задачи человеческих лиц и составлял невнятные еще, зыбкие еще в своих основаниях, но возможные по идее формулы человеческих лиц в состоянии покоя, человеческих жестов, походок, манер говорить, глядеть, улыбаться, смеяться, сердиться, негодовать, приходить в ярость. Он был больше человекоиспытатель, чем соучастник жизни тех, с кем приходилось ему жить вместе, и теперь, на пути к Балаклаве, приближая свое отнюдь не близорукое лицо то к лицу Мазанки, то к лицу Кароли, он был доволен, что вот расшевелил их тем, чему сам не придал никакого значения, – рассказом о корнете Зубенко, который был возмущен дороговизной колбасы до того, что не хотел ее покупать, и наглыми накидками военных портных до того, что стоически продолжал носить старую, заплатанную кадровую тужурку…
И широколицему рябому Блощанице он был благодарен за его вовремя вставленные пушки у лихачевских ворот и полтораста-двести пудов пшеницы на баснословном лихачевском черноземе.
Балаклавские греки, смуглые Кости и Юры, были очень недовольны войной. Все они были рыбаки и жили морем; теперь их не пускали в море ни днем, ни ночью. Теперь на берегах расположились батареи, в их домишках – солдаты-артиллеристы. Им оставили бухту для мережек, но в мережки попадала несчастная рыбья мелочь – барабульки и карасики, величиной в пятак, и Кости и Юры ходили похудевшие, почерневшие, мрачные. Напрасно они жаловались военному начальству и спрашивали, чем же теперь им жить. Начальство коротко отвечало: «Война!» Так было в Балаклаве только тогда, когда заняли ее англичане шестьдесят лет назад, но это помнили только очень старые люди, и от тех времен остался в полной неприкосновенности только один небольшой дом, комнатки в котором были в два аршина высотою. И уходить за рыбой по ночам, оставлять своих жен на произвол солдат тоже боялись Кости и Юры. И когда линейка въехала в Балаклаву, на все вопросы Блощаницы, где здесь квартирует эскадрон ополченцев, Кости и Юры мрачно отвечали: «Почем знаем?» – и отворачивались хмуро. И только когда Кароли весело заговорил с ними по-гречески, очень удивленные, они показали, как проехать к эскадрону. Но по-гречески же спросили они Кароли: если нельзя ловить рыбы в море, то чем же им жить? И по-русски ответил им Кароли: «Почем знаем?»
Это был дом какого-то немца, выселенного на Урал, вместительный дом с большими табачными сараями: у немца были табачные плантации. Теперь в этих сараях устроили конюшни, поблизости расквартировали людей, а сам Лихачев и Зубенко и небольшая канцелярия эскадрона разместились в доме.
В тужурке, расстегнутой на все пуговицы, в синих рейтузах старого образца, в вышитой тонкой рубахе, с сигарой во рту, ротмистр Лихачев сидел на веранде и читал «Русское слово». Приезд ревизионной комиссии очень его удивил, и он, улыбаясь приветливо, все-таки широко раскрывал выпуклые черные глаза. У него был прекрасный открытый лоб без морщин, пухлые щеки, безукоризненно выбритый круглый подбородок, и усы, так запомнившиеся полковнику Полетике, действительно были из таких, которые запоминаются: холеные, завитые обдуманными кольцами, черные породистые усы… В то же время Ливенцеву подумалось, что из него, по внешности, мог бы выйти хороший дирижер румынского оркестра.
Когда Мазанка объяснил ему, что вся эта ревизия – простая проформа, что она назначена командиром бригады по обеим дружинам, что он, ротмистр, отнюдь не является каким-то преступным исключением, Лихачев сделался исключительно приветлив, тут же крикнул писаря, а писарь тут же достал нужные книги и счета, и ревизия началась без проволочек и закончилась в какие-нибудь полчаса.
Комиссия нашла все в полнейшем порядке, и Лихачев, как хороший хозяин, вполне довольный неожиданными, но любезнейшими гостями, повел их по конюшням показывать лошадей своего эскадрона, так как ученье уже кончилось и люди были распущены на обед.
Посмотрели лошадей. И Мазанка и Кароли оказались любителями этого вида животных и большими его знатоками, Ливенцев же смотрел на лошадей сначала с любопытством, ему присущим, потом однообразие их форм начало его утомлять. Безусловно гораздо больше, чем все лошади эскадрона, занимал его сам ротмистр Лихачев.
Он держал себя так, как будто дело было не в какой-то там Балаклаве, а в его имении, где у ворот исторические пушки, а на воротах, может быть, даже и львы, где, конечно, старинный липовый парк и объемистые амбары, способные вместить баснословные урожаи пшеницы.
Когда дошли до последней лошади и показывать больше уж было некого и нечего, Лихачев сделал широкий пригласительный жест и сказал:
– А теперь, господа, прошу ко мне, закусить! Познакомлю вас с моею женой…
Упоминание о жене ротмистра заставило всех наклонить головы с особым почтением, почиститься щеткой, у медного рукомойника тут же на веранде вымыть руки и пригладить волосы.
Мебель в столовой, конечно, была оставлена сосланным немцем, но прекрасное столовое белье с красиво вышитыми метками на салфетках, свернутых в трубочки, серебряные кожи, вилки и ложки, несомненно, были привезены ротмистром из его Лихачевки. Ливенцев подумал даже, что и две бутылки вина были добыты не здесь и не в Севастополе, из каких-то тайников, доступных сведущим людям, а из старинного запаса лихачевского погреба, так как вино оказалось старых годов и дорогих цен.
Очень искусно, и, конечно, не эскадронным поваром, а домашним, из Лихачевки, был сделан соус для закуски под водку, стоявшую в граненом графинчике.
За стол не садились, конечно, ожидая, когда выйдет жена Лихачева, и она вошла, наконец, с густо-коричневой, совершенно голой, лупоглазой собачкой на руках, и по сторонам ее важно вошли еще две лохматых болонки и издали, при виде незнакомых людей, какой-то однообразный, придушенный звук, непохожий на лай, непохожий даже и на урчанье: по-видимому это было приветствие, по крайней мере так понял Ливенцев, сейчас же про себя окрестивший жену Лихачева Цирцеей.
Она была высокого для женщины роста, но не из полных и не из молодых, – лет сорока. Лицо ее казалось желтоватым даже под пудрой, под глазами заметные круги, глаза невнимательные, скользящие, значительно уже выцветшие; на обеих тонких руках браслеты с розетками камней, брошка-камея, на плечах пуховый светло-синий платок… Оттого, может быть, что все время дрожала своим коричневым голым тельцем собачка на ее руках, у Ливенцева получилось впечатление, что зябкой была сама эта Цирцея, следом за которой денщик внес осторожно за ушки большую фаянсовую миску с супом.
– Накажи меня бог, если я когда-нибудь видел таких собачек! – искренне сказал Кароли, когда представил их всех жене своей Лихачев и усадил за стол. – Что это за порода такая?
– Это африканка, – и Цирцея укутала ее своим пуховым платком. – Наступает осень, и ей, бедняжке, становится уж холодно…
– Она имеет способность лаять или совсем безмолвна? – полюбопытствовал Ливенцев.
– Попискивает, как цыпленок, – ответил за жену Лихачев. – Вообще же она тут испытывает большие неудобства, как и мы с женой… Надеемся, впрочем, что неудобства эти кончатся месяца через два… на худой конец – три… И мы опять домой – в имение.
– Вашими устами бы мед пить! Я уж тоже соскучился по имению, – сказал Мазанка и объяснил Лихачеву, в каком уезде находится его имение и кто там у них предводитель дворянства.
– Потревожили нас в наших родительских гнездах, а зачем? – раскатисто и веско говорил Лихачев, наливая по рюмке водки. – И какие огромные затраты государства на эти «апольченьские» дружины, до которых дело, разумеется, не дойдет! В декабре мы, конечно, подпишем мир!
– Это было бы гениально! – подхватил Ливенцев. – Но почему все-таки вы думаете, что в декабре мир?
Лихачеву, видимо, не понравился не самый этот вопрос, а тон вопроса, и он ответил снисходительно:
– А потому я так думаю, что война ведется в спешном порядке, что и понятно при современных э-э… вооружениях. Об австрийской армии можно сказать, что она уже почти не существует. Она совершенно де-морализована и бежит… или сдается массами… вот-вот мы обойдем Германию с левого фланга. А с юга – французы, а с запада – англичане. Не беспокойтесь! Вильгельм весьма неглуп и на карту всего ставить не станет. Платить по счетам придется Австрии, и она заплатит по-ря-дочно!
– Так что нам, вы думаете, она заплатит Галицией? – спросил Ливенцев.
– Галиция уже наша! – сказал Лихачев.
– Выпьем за Галицию, что же, а? Галиция так Галиция! – предложил веселый Кароли.
А когда выпили за Галицию, Лихачев добавил:
– Кроме Галиции, мы, может быть, и Буковину получим. Но самое важное, что мы получим, это – Константинополь и проливы!
– Послушайте, что же это вы! – удивился Ливенцев. – Откуда это вдруг Константинополь? И почему проливы?
– Как почему проливы? Вот это мне нравится! – удивился и Лихачев. – Из-за чего же мы с вами призваны, как это называется, кровь проливать? Конечно же из-за проливов! Что нам за корысть в Галиции? Галиция что нам такое даст? Это – земля бедная… Мы вон на владения в Средней Азии ежегодно огромные деньги тратим, и на Галицию, может быть, придется тратить, а вот проливы заполучить – это большой будет плюс.
– Почему большой плюс? – не понял Ливенцев и присмотрелся к Лихачеву, вытянув тонкую шею, и снова нашел, что если его разоблачить из тужурки и рейтуз и нарядить соответственно, то какой бы внушительный и типичный вышел из него дирижер румынского оркестра!
Но Кароли не дал ответить Лихачеву, он сказал горячо и с обидой:
– Если война и к новому году окончится, все-таки я на ней потерял уж тысяч двадцать!.. Накажи меня бог, не меньше двадцати тысяч!
– А каким образом потеряли? – спросила жена Лихачева, причем за обедом она действовала только одной правой рукой, а левая все как-то порхала по дрожащему тельцу лупоглазой африканской собачки.
– Мой старинный клиент умер один – грек Родоканаки, экспортер-хлебник, и нужно было трех оболтусов в наследство вводить… Считанные деньги были! – выпятил толстые губы Кароли. – Теперь уж эти денежки другой получит, а ведь я за ним как ухаживал! Как за родным отцом! Перед самым объявлением войны справлялся у докторов, – трое его лечили: «Ну что, как?» – «Две-три недели протянет, и готово!» – говорят. Рак желудка был… Смотрю теперь на все, а у меня тоска, у меня тоска!
– Эх, я, может, еще и больше вас потеряю! – тоскливо сказал Мазанка. – Остались в имении только жена с сынишкой, а она ведь никогда в хозяйство не вмешивалась… Начнет продавать хлеб, – ее, конечно, накроют. Непременно накроют! Еще может и так быть, что никаких денег не заплатят, а рубль уже стал полтинник!
– На колбасе – и того меньше, – улыбнулся Ливенцев.
– Хлеба сейчас не продавайте, – веско сказал Лихачев. – Явный убыток!
– И не продавать нельзя: деньги нужны.
– Продавайте нагульный скот в таком случае. Потому что скот на зиму оставлять, конечно, абсурд, а хлеб ваш пускай лежит: он ни сена, ни барды не просит… Я своему управляющему категорически запретил продавать хлеб: пусть лежит до окончания войны!
И Лихачев вытянул энергично левый ус и старательно закрутил его снова, а Ливенцев обратился к нему:
– Все-таки проливы… Я об этом знаю теоретически, так сказать, что вот существуют политики столичные, и они говорят что-то там такое, со времен Каткова, а пожалуй, даже и со времен матушки Екатерины, о Константинополе – втором Риме – и о проливах… Но ведь, представьте, так и думал, что все это нужно политикам, а нам с вами зачем проливы?
– Вам лично? Не знаю. Вам это лучше знать, – вежливо усмехнулся Лихачев. – Что же касается меня, помещика, производителя пше-ни-цы, которую от нас вывозят за границу всякие Дрейфусы, – то это уж я, конечно, знаю, так как за провоз через Дарданеллы своего же хлеба я же и плачу Турции!
– Вы? Не понимаю!
– Очень просто! Таможенный сбор существует одинаково как у нас, так и везде, – так же и в Турции. Вы ведь, э-э… не думаете, надеюсь, что у турок все очень просто: руки к сердцу, поклон в пояс, и проезжайте, пожалуйста, провозите хлеб, господа Дрейфусы! Нет, Дрейфусы платят, а с нас, помещиков, берут! То есть, нам они недодают на хлеб, сколько они теряют, чтобы Дарданеллы пройти… А когда Дарданеллы будут наши, то за хлеб свой мы будем получать больше, – ясно? Не говоря уж о том, что мы там десять Кронштадтов устроим, и черта с два к нам в Черное море кто-нибудь продерется! И никаких нам тогда балаклавских береговых батарей не надо строить! И Севастополь тогда будет просто торговый город…
– Вы редкостно-счастливый человек: знаете, зачем и к чему вся эта война… – начал было Ливенцев, думая выяснить для себя еще кое-что благодаря этому ротмистру, который внимательно так читал «Русское слово», но тут вошел корнет Зубенко, в комнате показавшийся гораздо выше ростом, чем на Нахимовской улице, извинился, что несколько запоздал к обеду, сказал Лихачеву что-то такое о сене, которое – наконец-то! – получено там, в Севастополе, и вопрос теперь только в том, чтобы его доставить в Балаклаву.
Он сел за стол привычно, – видно было, что каждый день он так же точно садился за этот стол. Ливенцев пригляделся к рукаву его тужурки, не переменил ли на другую, – нет, он был постоянен: это была та самая, заплатанная на локте.
Теперь, когда Ливенцев окончательно убедился, что Зубенко – человек с какими-то странностями, он, по своему обыкновению, весьма приблизил к нему глаза, но ничего странного в его лице все-таки не находил. Напротив, это было вполне обычное, размашистых линий, степное лицо с белесыми ресницами, от которых веяло добродушием и недалекостью; из своих наблюдений над людьми Ливенцев выводил, что подобные белесые ресницы бывают только у недалеких людей. И так как он пришелся с ним рядом, то спросил Зубенко, как будто между прочим:
– Почему вам так не понравилась военная служба, что вышли в отставку корнетом? Мне кажется, что вы именно и рождены для геройских подвигов.
– Разве я корнетом в отставку вышел? – улыбнулся Зубенко. – Я, конечно, поручиком, только теперь надел свои прежние погоны, как и полагается по закону: раз ты мобилизован из отставки, чин твой – какой был на действительной…
– Знаю, знаю… но уверен я, что вы погон поручичьих даже и не покупали.
– А зачем же мне их было покупать? – удивился как будто Зубенко, которому денщик поставил в это время тарелку супа.
– Лишняя трата денег? – подсказал Ливенцев.
– Совершенно лишняя, – согласился Зубенко.
– Что такое два с полтиной за погоны с тремя звездочками заплатить! – вмешался в разговор Кароли. – Накажи меня бог, пустяк полнейший, а все-таки три звездочки, а не две! Да, наконец, купили бы еще пару звездочек за двугривенный, и все! И пока мне не прикажут снять мои погоны с тремя звездочками, а надеть подпоручичьи с двумя, я их все-таки носить буду. Но ведь у меня миллионного состояния нету, как у вас!
– Какого миллионного? – повернулся к нему встревоженно Зубенко и замигал ресницами.
– А с какого же капитала можно получать по шестьдесят тысяч дохода? – причмокнул даже как-то Кароли. – Шестьдесят тысяч в год! Ого! И палец о палец не ударить! Меня, например, взять, так мне ведь сколько приходится ра-бо-тать, батенька! Родоканаки тоже не каждый год умирают! Мне сорок четыре монеты всего, а я вот – седой! – похлопал он по коротко стриженной голове, сидящей на короткой шее.
Ливенцев заметил, как густо покраснел Зубенко и с каким недоумением глядел на него Лихачев, выкатив свои румынские глаза. Даже Цирцея перестала порхать пальцами по спинке африканской собачки.
– Каких шестьдесят тысяч? – придушенно спросил Зубенко.
– Откуда у него шестьдесят тысяч дохода? – раскатисто сказал Лихачев, готовый захохотать, так как принял это за несколько странную между мало знакомыми людьми, но все-таки шутку, конечно.
– Будто бы дает французская компания какая-то за одни только недра, а имение остается имением, – три тысячи десятин! – ответил Лихачеву за Кароли Мазанка, тоже уставивший в несчастного корнета красивые, с поволокой, карие глаза.
– Вранье!.. Клевета!.. – энергично выкрикнул Зубенко. – Вообще меня, должно быть, смешали с кем-то другим.
– Вот странный человек! Не хочет даже, чтобы его считали богатым! Накажи меня бог, в первый раз такого вижу! – искренне удивился Кароли.
А Ливенцев даже пожал своими не узкими, но выдвинутыми как-то вперед плечами:
– Непостижимо!.. Я, конечно, не знал бы, что именно мне делать с миллионом, если бы он свалился мне с неба, но всякий миллион все-таки факт, как же можно его отрицать.
– Не понимаю, господа, что вы такое говорите! – как будто даже возмущенно немного поглядела на всех поочередно Цирцея. – Ведь это называется шутить над человеком, который отшучиваться совсем не умеет.
И под ее взглядом командирши, заступившейся за своего субалтерна, первым смутился вежливый Мазанка и тут же выдал Ливенцева:
– Сведения о миллионах идут вот от нашего прапорщика… Мы сами это только сегодня от него услыхали…
И так как на Ливенцева теперь обратилось сразу несколько пар глаз и белесые глаза Зубенко глядели неприкрыто враждебно, то Ливенцев тоже поколебался было и уж хотел как-нибудь замять разговор, но спросил на всякий случай корнета:
– А вы доктора нашего Монякова знаете?
– Монякова? – переспросил Зубенко и отвернулся.
– Да, того самого Монякова, с которым вы, правда, не захотели говорить дня два назад, но ведь когда-нибудь придется же вам с ним встретиться, не так ли?.. Так вот, это именно он мне о вас наговорил, представьте!.. Он вас очень хорошо знает… и ваше имение… и ваши дела с французской компанией «Унион».
– Он так вам и сказал: французской компанией? – пусто и глухо спросил после томительного молчания Зубенко.
– С французской или бельгийской… Да, кажется, именно с бельгийской, но мне показалось, что это – все равно.
– Угу… Нет, это – не все равно, – пробормотал Зубенко.
– Может быть… Он мне сказал еще, будто вы недовольны ими, этими французами или бельгийцами, что они плохо выполняют условия договора, то есть, попросту говоря, вас грабят…
– Он так и сказал вам: грабят? – живо обернулся к Ливенцеву Зубенко.
– Да, в этом роде… и будто вы начали с ними процесс.
– А он не сказал вам, кто посредничает бельгийцам этим, прохвостам? – с большою яростью в хриповатом голосе спросил вдруг Зубенко, и глаза у него стали заметно розовыми от прилившей к ним крови.
– Однако факт, значит, все-таки налицо! – торжествуя, перебил по-адвокатски Кароли Ливенцева, начавшего было что-то говорить Зубенко насчет Монякова. – Есть угольные копи, взятые в аренду бельгийцами, которые платят вам шестьдесят тысяч, но должны платить, по-вашему, гораздо больше.
Лихачев коротко кашлянул. Ливенцев взглянул на него пристально. У Лихачева был явно оскорбленный вид. Он покраснел, как от натуги, и нервно накручивал правый ус на палец.
Так как Зубенко упорно молчал, делая вид, что и ответить не может так вот сразу, – очень занят едой, – то Цирцея обратилась к нему негодующая:
– Значит, вы действительно получаете по шестьдесят тысяч в год доходу?.. А я-то думала, что над вами шутят! – и она сильно сощурила глаза.
Ливенцев заметил, что у Зубенко как-то сразу набряк, явно распух и без того объемистый нос, однако ответ его поразил еще больше наивного математика, чем его нос:
– Вы думаете, что шестьдесят тысяч за угольный пласт, как на нашей земле, это много? В том-то и дело, что мало! Очень мало!.. За подобный пласт Парамонов по три миллиона в год получает!.. Три миллиона! В год! Это вам не какие-нибудь несчастные шестьдесят тысяч! – с неожиданной выразительностью и силой сказал Зубенко.
Мазанку же, видимо, мучила другая сторона дела – размер имения Зубенко, и он спросил почему-то даже не певуче, как привык слышать от него Ливенцев, а тоже несколько хрипло:
– Это на всех трех тысячах десятин у вас угольный пласт оказался?
– Именно в этом и вопрос, что бельгийцы шурфуют землю везде, где им вздумается, а по договору они этого делать не смеют, – помолчав, ответил Зубенко.
Убедившись в том, что у этого немудрого на вид корнета действительно три тысячи десятин, Мазанка оглядел всех округлившимися и от этого ставшими гораздо менее красивыми глазами и проговорил:
– Однако! Три тысячи десятин! Степной земли!
– Что же тут такого? – зло отозвался Зубенко. – Вон у Фальцфейна триста тысяч десятин степной земли, – это я понимаю, – богатство, а то три тысячи!.. По сравнению с тремя стами – так, клочок жалкий!
– Не-ет-с, это уж вы меня извините, – это не клочок жалкий – три тысячи десятин, – как-то выдавил из себя скорее, чем сказал, Мазанка.
– Да-да! Смотря, конечно, как хозяйство поставить, а то три тысячи десятин вполне могут давать те же шестьдесят тысяч, – поддержал его Лихачев, покачав при этом как-то многозначительно из стороны в сторону лысеющей спереди головой, а Цирцея добавила:
– И мы ведь тоже бурили у себя, мы сколько денег ухлопали на бурение, однако у нас вот в недрах ничего такого не оказалось.
– Как? Вы тоже искали уголь? Или руду железную? – полюбопытствовал Кароли.
– Нет. Не руду и не уголь… Об этом-то мы уж знали, что нет… Мы за доломитом охотились, – объяснил Лихачев. – Доломит – он ведь для доменных печей требуется… И нашелся такой специалист, сбил нас с женою с толку: «У вас доломит! Бурите!» Вот и бурили… Денег, правда, пробурили достаточно, а доломит обманул… Ну, одним словом, он хотя и нашелся, только не того процентного отношения, какое требуется. Низкого качества. Годится, конечно, как бутовый камень, только не в домны… Да! На этом я, просто говоря, прогорел… А у вас, стало быть, целая Голконда? – обратился он к Зубенко не улыбаясь. – А я и не знал! Вы как-то ни разу не заикнулись даже… об этом своем альянсе с бельгийцами.
– Не дай бог иметь дела с этими негодяями! – уверенно, очень убежденно и горячо отозвался Зубенко, накладывая себе гарниру к жаркому.
– Наши союзники, – напомнил ему Ливенцев.
– Я о тех там, которые у себя дома сидят, не говорю, – поправился корнет. – Я говорю о тех пройдохах, какие к нам сюда приехали и нас сосут, как пауки.
– Однако миллион они для вас на вашей земле нашли же, – пытался склонить его на милость даже к приезжим бельгийцам Кароли.
– Какой миллион?
– Шесть рублей со ста, шестьдесят тысяч с миллиона!
– Ну, знаете, так считать если, тогда у Парамонова пятьдесят миллионов в земле лежат! А пятьдесят миллионов и один – это большая разница… Также надо принять во внимание, какое у меня семейство.
– Неужели вы женаты? – удивилась Цирцея и почему-то даже опустила при этом свою африканскую собачку на пол.
– Я не женат, положим, но ведь еще сколько нас – сестер и братьев… Это я считаю только родных, а ведь еще сколько двоюродных!.. Нас очень большая семья.
– Ну, ваши доходы тоже оказались не маленькие! Это на какую угодно семью хватит, – сказал Лихачев.
А Цирцея, безжалостно глядя на заплатанную на локте тужурку Зубенко, добавила язвительно:
– Тем более при ваших скромных привычках.
– Привычки зависят от воспитания, – буркнул Зубенко, не поднимая глаз.
Ливенцеву стало даже как-то жаль его, точно его травили со всех сторон, и виноватым в этой травле оказался не кто иной, как он же сам, Ливенцев, сболтнувший сказанное Моняковым, – мог бы ведь и промолчать. И, желая отвести разговор в сторону, он спросил Зубенко:
– Что же, пшеницу сеете на своей земле?
– Сеем и пшеницу, – подумав, ответил Зубенко.
– Ага! Вот видите! Значит, вам тоже необходимы проливы?
– Почему такое? Проливы? Мне? – несколько удивился, но и насторожился, как перед новой издевкой, Зубенко.
– Мы только что пришли к выводу, что всем помещикам России, у которых на полях пшеница, Дарданеллы необходимы, как воздух… Давайте же выпьем с вами за Дарданеллы! – поднял недопитую рюмку Ливенцев.
– Я не пью, – с достоинством ответил Зубенко.
– Как? Совсем никогда не пили? – изумленно поглядел на него Мазанка.
– Никогда не пил. И не курил также.
– Много потеряли! – сказал Мазанка, а Кароли ошарашенно выпятил губы:
– Накажи меня бог, первый раз такого человека вижу! Куда же вы свои миллионы намерены девать?
– Что не пьет и не курит – это верно, – сказал Лихачев. – И очень хороший службист, – рекомендую! У него все и всегда в порядке. При таком субалтерне эскадронный командир может быть спокойным перед любым смотром и перед любой ревизией.
Ливенцев принял эту рекомендацию как желание Лихачева вывести своего корнета из неловкого положения, хотя и не понимал как следует, в чем же именно тут неловкость. И только когда пригляделся к Цирцее вплотную, как привык приглядываться к людям, понял, что Лихачев говорил это не для них трех, а для нее одной, для той, которую теперь перестали уж совсем занимать голая коричневая собачка и две белых болонки. Она дала им каждой в свою мисочку по куску рагу из баранины, и около нее теперь шло деловитое чавканье и урчанье, как около подлинной Цирцеи на ее острове, и она была теперь явно разгневана тем, что тот, который носил около нее, ею как будто и данный ему, облик простеца и бедняка, оказался вдруг перевоплотившимся самовольно во что-то другое, вдруг как-то неожиданно сделался далеко не так прост и, главное, совсем не беден, даже очень богат!
Да, у нее было явно негодующее лицо. На Зубенко она смотрела не отрываясь. Ливенцев понял, что это – женщина властная.
И вот еще что он понял: что он сам как будто человек с другой планеты среди остальных; что здесь, в Балаклаве, за одним столом с ним, получающим только свое полуторасторублевое жалованье прапорщика и больше ниоткуда ничего, сидят всё богатые люди. Об адвокате Кароли он знал, что у него прекрасный дом в Мариуполе, что сюда, в Севастополь, он взял свой выезд – красивый кабриолет и пару дышловых лошадей, неизвестно почему уцелевших пока от мобилизации; трое остальных были помещики, из которых самым богатым оказался самый незаметный на вид и преувеличенно скромный в своих привычках, не захотевший тратить даже двугривенного на третьи звездочки себе на погоны, хотя и мог бы носить погоны поручика так же незаконно, как и Кароли.
Над тем, что говорил ему о Зубенко дня два назад этот радикал, земец, доктор Моняков, он пытался думать только теперь – и удивленно видел, что молодой еще степной помещик этот, обладатель миллионов, захлестнут как-то до потери самого себя своими богатствами, что как-нибудь пользоваться ими он совсем не умеет, даже боится, что он умеет их только стеречь, может стремиться их увеличить, но совершенно лишен способности их тратить, – и в нем появилась какая-то не то что отчужденность, а даже брезгливость к этим всем, чересчур связанным с землею, преувеличенно земным людям и к Цирцее с ее африканскими и прочими собачками, и он сказал, улыбаясь, как всегда, когда чувствовал брезгливость:
– Господа! У меня нет ни имения, ни дома, ничего вообще, кроме знания математики, и то приблизительного, конечно. Но математика не нуждается в защите при помощи кавалерии, а также штыков и пулеметов… Да на нее никто и не нападает: какая корысть нападать на какую-нибудь теорию парабол и гипербол? А вот напасть на имения с их пшеницей или на угольные копи – тут есть так называемый казус белли. Говорят уже, что теперешняя война – война угля и железа… и доломита, конечно, поскольку он необходим для железа. (Тут Ливенцев улыбнулся в сторону Цирцеи.) Вопрос теперь, значит, только в том, чтобы нам всем, – и мне тоже, представьте, как это ни странно! – суметь защитить все наши пшеничные поля и угольные копи.
– Как защитить? – глянул на него непонимающе Лихачев.
– От кого защитить? – спросил Мазанка. – Кто на них покушается?
– Вот тебе на! Разве немцы не заняли у нас часть Польши? – удивился Ливенцев.
– А мы разве не заняли часть Пруссии? – спросил Лихачев. – Линия фронта может, конечно, колебаться то здесь, то там, но-о до наших коренных русских земель куда же добраться немцам? Ни-ко-гда этого не будет! Да и вообще пустяки… Наше военное министерство урок японской войны учло – это теперь для всех очевидно… Нет, война кончится месяца через два-три…
– А вы как думаете? – обратился Ливенцев к Зубенко.
Зубенко подумал, помял хлебный мякиш между толстыми пальцами и сказал решительно:
– К новому году кончат войну!
Кароли же горячо добавил:
– И как только Вильгельм попадется в плен, – накажи меня бог, об него готов тогда буду целый день спички тушить! Так он мне с этой войной надоел, проклятый!
Ливенцев поглядел на него и расхохотался вдруг.
– А если… если не через два месяца, а и через два года не кончат войну? – еле проговорил он сквозь хохот.
– Абсурд! – махнул рукою Лихачев.
– Чепуха! – сказал Мазанка.
– Мне надо насчет сена распорядиться, – вдруг поднялся из-за стола, наклоняя голову в сторону Цирцеи, Зубенко. – Сейчас же надо послать подводы, а то ведь на сено много охотников… Не успеешь оглянуться – артиллеристы заберут, а потом ищи-свищи!
– Да-да! Вот именно: ищи-свищи! Идите, идите, – забеспокоился и Лихачев, а Мазанка кивнул Кароли:
– Надо бы и нам ехать…
Но хотя Зубенко и ушел, простившись с ними, их остановил Лихачев, так как подавали еще чай (на серебряном подносе, и стаканы в подстаканниках старого серебра), ликерные узенькие рюмочки и пузатую черную бутылку бенедиктина.
– Ка-ков оказался скромник наш Зубенко! – сказала Цирцея, снова усаживая на колени африканку и укутывая ее платком. – Ведь если бы вы не сказали нам, то откуда бы мы могли узнать, что это – богач? Если бы мы имели хотя бы половину его состояния! А ведь он…
Она остановилась, не договорив, но Ливенцев понял ее так, будто хотела она добавить: «…каждый день обедает на наш счет!»
И ему стало весело, когда добавил он про себя именно это.
А когда, простившись с Лихачевым, выходили они трое к своей линейке, Ливенцев заметил на верхней филенке верандной двери размашистую надпись химическим карандашом: «Прошю оставит сей дом внеприкосновенности допребытие хозяина».
Ливенцев понял, что писал это высланный на Урал немец, надеясь, как и они все, что война скоро окончится и еще скорее – забудется, и он, честный владелец табачных плантаций, снова будет командовать целой армией русских девок из Мелитопольского уезда, которые будут ему цапать землю, высаживать из парников рассаду, срывать спелые листья, сушить их на суруках и проделывать с ними вообще все эти сложные трудоемкие процедуры, пока не получится товар, готовый для отправки на табачную фабрику.
И даже вообразил вполне ясно и определенно именно такого, каким только он мог бы быть, балаклавского немца-табачника Ливенцев и представил, как на этой вот веранде, кейфуя в послеобеденный час, мечтает он, честный немец, о своей табачной фабрике, о конкуренции с Месаксуди и какими-нибудь братьями Лаферм и непременно о миллионах…
А кучер Кирилл Блощаница, заметив, что привезенные им офицеры вышли навеселе и с завидно-покрасневшими лицами, подмигнул Ливенцеву как-то сразу всем своим широким загорелым рябым лицом и сказал, облаживая сбрую:
– Такое в прежнее время заведение у него, у Лихачева, было до чужих кучеров, какие, конечно, гостей привозили: стаканчик водки чтобы и, само собою, обед в людской… Думка такая у меня и теперь была, ну, однако, не вышло. А денатурату того когда-сь случилось выпить стакан, так от него аж каганцы в глазах!.. Конечно, пьют люди за неимением, только же его, говорят, через хлеб пропускать треба…
Кирилл Блощаница явно был недоволен ротмистром Лихачевым.
На обратном пути говорили опять о том же корнете Зубенко, причем Кароли высказывал догадку, что разбогател он случайно, что три тысячи десятин эти у него не родовые, а приобретенные, что он не дворянин, конечно, а, вероятно, из зажиточных хуторян, которым вдруг подвезло с этим углем на их земле. Втихомолку Зубенко-отец скупал по дешевке земли себе под межу, втихомолку же завязал и эти политичные сношения с бельгийцами, но нечаянно как-нибудь умер, «если не от рака в желудке, как наш мариупольский Родоканаки, то от какой-нибудь еще стервочки», и вот корнет Зубенко, как старший, вполне естественно, выходит в запас, а потом в отставку, чтобы вести хозяйство и сражаться с бельгийским «Унионом».
– Мужичок он, разумеется, прижимистый, – сказал Мазанка, – и в больших капиталах со временем будет, но вот для меня, как отца, – я ведь тоже сына-гимназиста имею, – вопрос в чем: сам ли он такой уродился, этот корнет Зубенко, или его так отец воспитал? А если воспитал отец, то каким же образом мог он этого добиться? Мытьем или катаньем? Ведь жмот сверхъестественный!
– Накажи меня бог, – музейная редкость! За деньги можно показывать.
Ливенцев молчал, потому что в голове его вертелись миллионы всех мастей: русские, бельгийские, немецкие, французские, английские… Эти миллионы принимали в его мозгу, несколько разгоряченном лихачевским вином, странно-уродливые, однако вполне реальные формы. И они сражались – эти разнонародные миллионы, а Кирилл Блощаница, который пока возится с серыми, секущимися на лопатках конями и мечтает о стаканчике водки, потом когда-нибудь пойдет вместе с ним, математиком Ливенцевым, оборонять русские миллионы против миллионов немецких… А зачем это им обоим?
Сердит ли был Блощаница, или серые рвались домой к кормушкам, только они бежали бойко. На седьмой-восьмой версте от Балаклавы они догнали три мажары, в которых сидело по нескольку человек: солдат-ополченцев, у которых солдатского было только – медные кресты на вольных картузах. Несколько впереди их, верхом на гнедом дончаке, но уже не на белоногом, а на другом рысил Зубенко.
– За сеном? – крикнул ему Мазанка, поравнявшись.
– За сеном! – ответно крикнул Зубенко, явно не пожелавший ни ехать с ними рядом дальше, до Севастополя, ни вступать в какие-либо разговоры еще, после того что говорилось за обедом у Лихачева.
Он даже не улыбнулся, он только чинно поднял руку к козырьку своей потертой фуражки. А Мазанка сказал Кароли:
– Если фураж на целый эскадрон через руки этого Зубенко будет идти, то чем это пахнет, а?.. – и подтолкнул его локтем.
Энергически, как всегда, Кароли отозвался:
– Накажи меня бог, наживет еще миллион за время войны!..
При этом добавил он весьма сложное и выразительное ругательство, какого никак не ожидал математик Ливенцев от поручика с университетским значком.
Когда проезжали уже окраиной Севастополя, Кароли заметил свой кабриолет, в котором каталась его жена, и пересел к ней, а Мазанка и Ливенцев слезли с линейки у остановки трамвая. Кирилл Блощаница один поехал в дружину, где офицерам жить было негде.
Толстая, сырая, обветренная, красная, с облупившимся носом, старая торговка с двумя корзинами помидор и дынь спешила, грузная, к тому же вагону трамвая, в который сели Мазанка и Ливенцев, и уже занесла было она обрубковатую ногу в пыльном башмаке на подножку, но чахлого и сонного вида кондуктор дал свисток, вагон тронулся.
– Та куды же ты, нэгодяй, подлец?! – пронзительно завопила торговка.
Между тем в вагоне было всего несколько человек, и Ливенцев сказал кондуктору:
– Там еще какая-то старуха осталась, – посадить надо.
Сощуренными мутными глазками глянул на него кондуктор и дернул за веревку: вагон стал.
Втискиваясь в узкую дверь вагона со своими корзинищами, свирепо орала на кондуктора баба:
– Сви-сти-ит!.. А чтоб у тебя в животе так свистело!.. Куды ж ты свистишь, нэгодяй, когда я садюсь?
Она уселась как раз против Ливенцева, тяжело дышащая, с росинками пота на широком носу, и, время от времени обращаясь то к нему, то к Мазанке, полновесным грудным голосом воинственно кричала:
– Вот нэгодяй, – ну, что вы скажете, а!.. Сви-стит, когда человек сидае! Он знай свое – сви-стит!.. Вот так они и людей давлють!
Смешливый Ливенцев не выдержал, наконец, и захохотал; заулыбался весело и Мазанка, а старуха ворчала:
– Смийтесь, смийтесь себе, а мне начхать!.. Я садюсь, а вин себе свистит, нэгодяй!..
Даже и полусонного кондуктора развеселила свирепая старуха. А Ливенцев говорил Мазанке сквозь смех:
– Вот она – матушка Россия! Попробуйте ее в вагон культуры не взять – какого она крику наделает! Не-ет, она свое место под солнцем знает и ото всех отобьется.
И с тою наивностью, которая его отличала, обратился он вдруг к старухе:
– А ну-ка, послушаем глас народа!.. Когда кончится война, о дщерь Беллоны?
Но дщерь Беллоны, остановив на нем серые, в набрякших веках, маленькие, но сердитые глазки, сказала вдруг для него неожиданно:
– А-а, як так будете вы воювать, как воюете, то и людей на вас не хвате!
Поджала презрительно губы и отвернулась к окну вагона.
– Что это значит? – вопросительно поглядел Ливенцев на Мазанку. – Что такое изрекла эта Сивилла?
Мазанка сделал жест левым плечом и левой стороной лица, означавший: «Охота была к такой обращаться!»
Но тут скоро остановился вагон, и на этой остановке бурно ворвался в него мальчишка-газетчик со свежими дневными телеграммами и звонким криком:
– По-те-ря двух наших корпусов в Восточной Пруссии!.. Генерал Самсонов убит!..
И через две-три минуты из радостно-розового по цвету широкого листа телеграммы Ливенцев узнал то, что гораздо раньше его узнала базарная торговка, – что под Танненбергом и Сольдау, в болотистых лесах, восьмая германская армия, пользуясь превосходством артиллерии и лучшим знанием местности, обошла армию Самсонова, что Самсонов и два других генерала с ним были убиты немецким снарядом, что мы потеряли два корпуса…
Телеграмма была запоздалая, очевидно задержанная в штабе крепости, не решавшемся опубликовать ее. Но из штаба крепости, конечно, через писарей, проникла она на базар.
Выходя из вагона вместе с Мазанкой близ Малой Офицерской, на которой они жили оба, говорил Ливенцев взволнованно:
– Меня это ударило страшно! Совершенно не думал, что это возможно. Самсонов! Опытный генерал! Участник японской войны… О нем писали как о военном таланте, о стратеге… Эх! Какая жалость! Два корпуса! Ведь это – восемьдесят тысяч человек!..
– А что же делал Ренненкампф? Осаждал Кенигсберг? Почему не было согласованности действий? Потому что он – Ренненкампф, – вот почему! – выкрикнул залпом Мазанка, и красивое лицо его стало бледным, только глаза горели. – Может быть, он миллион получил от Вильгельма за то, что не поддержал Самсонова, почем мы знаем? Немец с немцем всегда сговорятся за русской спиной. Это уж будьте покойны.
– Значит, вы полагаете, что дело не в каком-то генерале Гинденбурге, назначенном Вильгельмом на место Притвица, а исключительно в одном только немецком миллионе, предложенном Ренненкампфу?
– Непременно! – очень убежденно отозвался Мазанка.
И, внимательно глядя в его горячие на бледном лице глаза, Ливенцев проговорил, запинаясь:
– Вот подите же… Для меня, конечно, ясно, что я подхожу к людям совсем не с того конца, с какого надо… И знаете, что я теперь думаю после этого несчастного Танненберга?.. Что немцы не так скоро сдадутся, как мы все об этом мечтаем. Нет. Не так скоро.