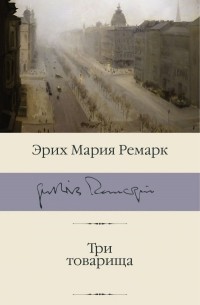Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
III
Во вторник утром мы сидели во дворе нашей мастерской и завтракали. «Кадиллак» был готов. Ленц держал в руке лист бумаги и, торжествуя, глядел на нас. Он был у нас главным по рекламе и только что зачитал Кестеру и мне текст сочиненного им объявления насчет продажи этой машины. Оно начиналось словами: «Отпуск на южном побережье в роскошном авто» – и было чем-то средним между интимно-лирическим стихотворением и патетическим гимном.
Выслушав Ленца, мы с Кестером на какое-то время онемели, не в силах прийти в себя от такого безудержного шквала буйной и витиеватой фантазии. Ленц считал, что ошеломил нас.
– Тут вам и поэзия, и размах, и шик! Скажете нет? – гордо произнес Ленц. – Именно в век деловитости надо быть романтиком, вот в чем фокус. Противоположности взаимно притягиваются.
– Но не тогда, когда речь идет о деньгах, – возразил я.
– Покупка автомобилей – это тебе не способ капиталовложения, мой мальчик, – отмел мое возражение Готтфрид. – Их покупают, чтобы истратить деньги. И вот тут-то как раз и начинается романтика, по крайней мере для делового человека. А для большинства людей она на этом, пожалуй, и кончается. Как ты считаешь, Отто?
– Видишь ли… – осторожно начал Кестер.
– Да не нужно лишних слов! – прервал я его. – Это объявление для какого-нибудь курорта или для косметического крема, но никак не для продажи автомобиля.
От неожиданности Ленц раскрыл рот.
– Не торопись, Готтфрид, – продолжал я. – Ведь нас ты считаешь пристрастными. Поэтому я предлагаю: давай спросим Юппа. Юпп – это глас народа.
Юпп был нашим единственным служащим – пятнадцатилетний подросток, что-то вроде подмастерья. Он обслуживал бензоколонку, заботился о завтраке и убирал мастерскую по вечерам. Он был маленького росточка, усеян веснушками и обладал такими оттопыренными ушами, каких я не видел больше ни у кого. Кестер шутил, что если, мол, Юпп выпадет из самолета, то ничего с ним не случится: на таких ушах он плавно спланирует на землю.
Мы позвали его, и Ленц прочитал ему объявление.
– Ты заинтересовался бы таким автомобилем, Юпп? – спросил Кестер.
– Автомобилем? – переспросил Юпп.
Я рассмеялся.
– Ну конечно, автомобилем, – буркнул Ленц. – Или, по-твоему, тут говорится о саранче?
– А какой это автомобиль? Есть ли у него ускоряющая передача, распредвал с верхним управлением эксцентриками, гидравлические тормоза? – спокойно осведомился Юпп.
– Дурья твоя башка, да это же наш «кадиллак»! – прошипел Ленц.
– Не может этого быть! – возразил Юпп, ухмыляясь от уха до уха.
– Слыхал, Готтфрид? – сказал Кестер. – Вот это и есть романтика сегодняшнего дня.
– Топай к своей колонке, Юпп, проклятый сын двадцатого века!
Раздосадованный Ленц направился в мастерскую, решив внести в свое объявление чуть побольше технических данных, но обязательно сохранить его поэтический пафос.
Несколько минут спустя к нам совершенно неожиданно нагрянул старший инспектор Барзиг. Мы его встретили как самого почетного гостя. То был инженер-эксперт общества по страхованию автомобилей «Феникс», важная персона, от которой зависело получение заказов на ремонт. Он был знающим и дотошным автомобилистом, требовал от нас безукоризненной работы. Но был он еще и специалистом по бабочкам, и, играя на этой его страсти, мы могли вить из него веревки. Однажды мы пополнили его и без того богатую коллекцию «мертвой головой» – крупной ночной бабочкой, залетевшей на огонек в нашу мастерскую. С торжественной миной, побледнев от неподдельного волнения, Барзиг принял от нас этот дар – чрезвычайно редкий экземпляр, о котором он уже давно мечтал. Этот эпизод запомнился ему, и авторемонтные работы так и сыпались на нас. Со своей стороны, мы старались ловить для него любую моль, попадавшуюся нам на глаза.
– Не угодно ли рюмку вермута, господин Барзиг? – спросил Ленц, опять овладевший собой.
– До вечера ни капли спиртного, – ответил Барзиг. – Мой железный принцип!
– От принципов необходимо иногда отступать, иначе они не доставляют радости, – заявил Готтфрид и разлил вермут по рюмкам. – Предлагаю за процветание «перламутровок», «бражников» и «павлиноглазок»!
– Ну, знаете ли, у вас такой тонкий подход, что попробуй-ка откажись, – сказал Барзиг после недолгих колебаний. – Но уж коли на то пошло, то заодно выпьем еще и за «бычий глаз». – Он застенчиво улыбнулся, точно сболтнул нечто двусмысленное о дамах. – Дело в том, что я обнаружил новую разновидность – со щетинистыми усиками.
– Вот это да! – воскликнул Ленц. – Снимаю шляпу и низко кланяюсь вам! Выходит, вы первооткрыватель и ваше имя будет вписано в анналы истории естественных наук.
Мы выпили еще по одной за щетинистые усики. Барзиг вытер собственные усы.
– Я к вам с приятной новостью: можете забрать «форд». Дирекция решила поручить ремонт вам.
– Прекрасно! – сказал Кестер. – Это нам вполне подойдет. А как насчет предложенной нами сметы?
– Ее утвердили.
– Неужто не урезали?
Барзиг хитро прищурил глаз.
– Сперва эти господа сопротивлялись, но в конце концов…
– Еще раз выпьем до дна за успехи страховой компании «Феникс», – заявил Ленц и снова налил всем.
Барзиг встал и откланялся. Уходя, он сказал:
– А женщина, находившаяся в «форде» во время аварии, несколько дней назад все-таки скончалась, хотя у нее были только резаные раны. Видно, из-за слишком большой кровопотери.
– А сколько ей было лет? – спросил Кестер.
– Тридцать четыре, – ответил Барзиг. – Беременность на четвертом месяце. Покойная была застрахована на двадцать тысяч марок.
Мы сразу поехали за машиной. Она принадлежала одному булочнику. Поздно вечером в полупьяном виде он наехал на кирпичную стену. Его жена получила ранения, он же нисколько не пострадал.
Когда мы готовили машину к буксировке, он пришел в гараж. С минуту молча глядел на нас, поникший, с изогнутой спиной, короткой шеей, слегка подавшись вперед. Как у всех пекарей, у него был нездоровый, серовато-белый цвет лица, и в полумраке он вдруг показался мне каким-то большим и печальным мучным червем. Медленно он подошел к нам.
– Когда машина будет готова? – спросил он.
– Недели через три, – ответил Кестер.
Пекарь показал на складной верх автомобиля:
– Это тоже входит в оплату?
– О чем вы говорите? – удивился Кестер. – Ведь верх совершенно цел.
Пекарь раздраженно передернулся:
– Сам вижу. Но разве из общей суммы нельзя выкроить деньги на новый верх? Вы получили довольно крупный заказ, и я надеюсь – мы поймем друг друга.
– Нет, не поймем, – сказал Кестер.
Он отлично понимал булочника. Этот тип желал бесплатно заполучить новый верх, на который страховка вообще не распространялась. Во что бы то ни стало он хотел контрабандой протащить его стоимость в смету. Мы начали было спорить с ним. Тогда он пригрозил аннулировать заказ и предложить составление сметы более сговорчивой мастерской. В конце концов Кестер сдался. Будь у нас побольше работы, он бы ни за что не пошел на попятный.
– Чего же сразу не согласился! – сказал булочник и криво усмехнулся: – В ближайшие дни зайду выбрать ткань. Хотелось бы бежевого цвета. Люблю нежные оттенки…
Мы двинулись. По дороге Ленц показал нам на сиденьях «форда» крупные черные пятна.
– Кровь его умершей жены. А он выклянчил себе новый верх. Бежевый, видите ли! Нежные оттенки! Вот уж действительно мертвая хватка. Он еще, чего доброго, выжмет страховую сумму сразу за двух покойников: ведь жена была беременна.
Кестер пожал плечами:
– Что ж, он, видимо, считает, что жена женой, а деньги деньгами.
– Очень может быть, – сказал Ленц. – Говорят, есть люди, для которых страховка – это как бы утешение в горе. А наш убыток составляет ровно пятьдесят марок.
Во второй половине дня я под каким-то предлогом отправился домой. Мое свидание с Патрицией Хольман было назначено на пять часов, но в мастерской я об этом ничего не сказал. И не потому, что хотел что-то утаить. Просто все это вдруг показалось мне самому довольно неправдоподобным.
Она попросила меня прийти в какое-то неизвестное мне кафе. От кого-то я слышал, что оно небольшое, но элегантное и уютное. Не ожидая ничего плохого, я поехал туда. Но, едва переступив порог, я испуганно остановился. Помещение было переполнено на редкость словоохотливыми женщинами. Я попал в типичную дамскую кондитерскую.
С трудом мне удалось захватить только что освободившийся столик. Испытывая чувство неловкости, я осмотрелся. Из мужчин, кроме меня, здесь были еще только двое, но они мне не понравились.
– Кофе, чай, шоколад? – осведомился кельнер и салфеткой смахнул мне на костюм разбросанные по столешнице крошки от пирожных.
– Двойной коньяк, – ответил я.
Он принес его. А заодно приволок группу любительниц кофе, искавших, где бы им сесть. Их возглавляла атлетического телосложения дама уже весьма зрелого возраста. На ней была шляпка с траурным крепом.
– Вот, пожалуйста, четыре места, – проговорил кельнер и указал на мой столик.
– Простите! – ответил я. – Столик не свободен. Я здесь ожидаю кое-кого.
– Не полагается, сударь! – сказал кельнер. – В эти часы у нас нельзя резервировать места.
Я посмотрел на него. Затем перевел взгляд на корпулентную даму, стоявшую теперь вплотную у столика, крепко ухватившись за спинку стула. Приглядевшись к ее лицу, я решил не сопротивляться. Дама была полна такой решимости завоевать столик, что даже артиллерийский залп не поколебал бы ее.
– Тогда не могли бы вы по крайней мере принести мне еще один коньяк? – с досадой обратился я к кельнеру.
– Слушаюсь! Опять двойной?
– Да.
– Пожалуйста! – Он поклонился мне. – Ведь столик-то на шесть персон, сударь! – как бы извиняясь, добавил он.
– Ладно, пусть! Только поскорее принесите мне коньяк.
Дама, поразившая меня своими могучими телесами, видимо, состояла членом какого-нибудь клуба трезвенниц. Она уставилась на мою рюмку с таким отвращением, словно это была протухшая рыба. Чтобы позлить ее, я заказал еще рюмку и, в свою очередь, уставился на ее крупнокалиберные формы. Но внезапно все происходящее представилось мне в каком-то совершенно дурацком свете. Чего ради я приплелся сюда? Чего хотел от девушки, которую ожидал? Я даже сомневался, узнаю ли ее среди всей этой кутерьмы и гула. С недобрым чувством к самому себе я единым духом выпил рюмку.
– Салют! – сказал кто-то за моей спиной.
Я вскочил на ноги. Она стояла передо мной и улыбалась.
– А вы, я вижу, не теряете времени даром!
Я поставил рюмку, которую все еще держал в руке, на столик. Я растерялся. Девушка выглядела совсем иной, чем запомнилась мне. Среди этого множества упитанных баб, поглощающих пирожные, она казалась стройной юной амазонкой, холодной, сияющей, уверенной в себе и неприступной. «Ничего у меня с ней не выйдет», – подумал я и сказал:
– Как же это вы возникли здесь, как привидение?
Я ни на секунду не спускал глаз с дверей.
Она указала направо:
– Там есть другой вход. Но я опоздала. А вы давно уже ждете?
– Не более двух-трех минут. Я тоже пришел только что.
Компания за моим столиком умолкла. Затылком я чувствовал оценивающие взгляды этих четырех солидных матерей семейств.
– Мы останемся здесь? – спросил я.
Девушка посмотрела на столик, огляделась вокруг, и ее губы смешливо искривились.
– Вероятно, все кафе на один лад.
Я покачал головой:
– Лучше, когда они пустые. А в этом чертовом заведении человека охватывает комплекс неполноценности. Приятнее посидеть в каком-нибудь баре.
– В баре? А разве бары бывают открыты днем?
– Я знаю один такой бар, – сказал я. – Правда, там очень тихо. Если это вас устраивает…
– Иногда, пожалуй, устраивает.
Я посмотрел ей в глаза, не сразу поняв, что она имеет в виду. Вообще я не против иронии – если, конечно, она не в мой адрес. Но теперь совесть моя была почему-то нечиста.
– Тогда идемте.
Я окликнул кельнера.
– Три двойных коньяка, – заорал этот жалкий неудачник таким голосом, будто хотел докричаться до посетителя, уже лежавшего в гробу. – Три марки тридцать пфеннигов.
Девушка обернулась ко мне:
– Три коньяка за три минуты! Вот это темп!
– Два были выпиты вчера.
– Нет, каков врун! – прошипела мне вслед пышнотелая дама. Она слишком долго молчала, и наконец ее прорвало.
Я повернулся к столику и поклонился:
– Благословенного вам Рождества, милые дамы!
Затем я быстро пошел.
– Вы что, поссорились с ними? – спросила девушка уже на улице.
– Да ничего особенного. Просто я обычно произвожу неважное впечатление на хорошо обеспеченных домохозяек.
– И я тоже, – ответила она.
Я посмотрел на нее. Какое-то существо из другого мира. Я начисто не мог себе представить, какова она и как живет.
В баре я почувствовал себя более уверенным. Когда мы вошли, бармен Фред стоял за стойкой и надраивал до блеска конусовидные коньячные рюмки. Он поклонился мне так, будто увидел меня впервые в жизни и словно не он, а кто-то другой всего лишь позавчера с трудом дотащил меня до дому. За плечами этого отлично вышколенного человека был огромный жизненный опыт.
В зале было пусто. Лишь за одним столиком, как почти всегда, сидел Валентин Гаузер. Мы познакомились на фронте – служили в одной роте. Однажды, преодолев полосу заградительного огня, он принес мне на передний край письмо – думал, что оно от моей матери. Он знал, что я очень жду этого письма – мать должна была лечь на операцию. Но он ошибся: это была всего лишь реклама подшлемников из какой-то особой ткани. На обратном пути его ранило в ногу.
Вскоре после войны Валентин получил наследство и начал его методически пропивать. Он утверждал, что каждодневно обязан отмечать свое счастье: ведь вышел живым из мясорубки войны. При этом его ничуть не занимало, что война кончилась несколько лет назад. Он часто повторял, что такое везение сколько ни отмечай – все будет мало. Он был одним из тех, кто запомнил войну в мельчайших подробностях. Мы, его товарищи, о многом давно позабыли, он же помнил каждый день, каждый час.
Я сразу заметил, что он уже порядком хлебнул. Всецело поглощенный собой, он с отсутствующим видом сидел в своем углу.
Я приветственно поднял руку:
– Салют, Валентин!
Он глянул на меня и кивнул:
– Салют, Робби!
Мы уселись за столик в другом углу. Подошел бармен.
– Что желаете пить? – спросил он девушку.
– Рюмочку мартини, – ответила она. – Сухого мартини.
– В этом Фред большой специалист, – заявил я.
Фред не мог удержаться от улыбки.
– А мне, пожалуйста, как всегда, – сказал я.
В баре царил полумрак и было прохладно. Пахло пролитым джином и коньяком – терпкий запах, напоминавший ароматы можжевельника и хлеба. Под потолком висела деревянная модель парусника. Стенка за стойкой было обита листами меди. Приглушенный свет люстры переливался в них красными отблесками, словно медь отражала какой-то подземный огонь. В стенах были укреплены чугунные бра. Но только в двух из них – у столика Валентина и у нашего столика – горели лампочки. На бра были надеты прозрачные желтые абажуры, вырезанные из старых пергаментных географических карт и казавшиеся какими-то светящимися фрагментами нашего мира.
Я был слегка смущен и не знал толком, с чего бы начать разговор. Ведь эту девушку я, в общем, совсем не знал, и чем дольше я смотрел на нее, тем более чужой она мне казалась. Уже бог знает как давно я ни с кем не был вот так вдвоем и просто утратил навык подобного общения. Другое дело контакты с мужчинами – тут у меня было куда больше опыта. Мы с ней встретились в чересчур шумном кафе, а здесь все вокруг показалось мне слишком уж тихим. И в этой тишине каждое слово приобретало настолько большой вес, что разговаривать непринужденно стало невозможно. Мне уже вроде бы захотелось вернуться в то кафе.
Фред принес рюмки. Мы выпили. Ром был крепок и свеж, с каким-то солнечным привкусом. Он как бы служил мне какой-то опорой. Я выпил рюмку прямо при Фреде и сразу отдал ее.
– Вам здесь нравится? – спросил я.
Девушка кивнула.
– Больше, чем в той кондитерской?
– Вообще-то я терпеть не могу кондитерских, – сказала она.
– Тогда почему же мы встретились именно там? – удивленно спросил я.
– Не знаю. – Она сняла с себя берет. – Просто ничто другое мне не пришло в голову.
– Ну а раз вам здесь нравится, то тем лучше. Мы приходим сюда частенько. По вечерам этот кабачок становится для нас чем-то вроде дома.
Она улыбнулась:
– Это, пожалуй, печально. Или нет?
– Нет, – ответил я. – Сейчас такое время.
Фред принес мне вторую рюмку. Рядом с ней положил зеленую гаванну.
– Это вам от господина Гаузера.
Валентин помахал мне из-за своего столика и поднял свою рюмку.
– Робби, тридцать первое июля семнадцатого года, – произнес он тяжелым голосом.
Я кивнул ему и тоже поднял рюмку.
Гаузеру всегда нужно было пить с кем-то или в память о чем-то. Вечерами мне случалось наблюдать его в крестьянском трактире, где он пил, адресуясь к луне или к кусту сирени. Потом он вспоминал какой-нибудь из дней, проведенных в окопах, где мы порой попадали в особенно тяжелый переплет, и преисполнялся чувством благодарности судьбе за то, что он еще существует и может вот так сидеть за столиком.
– Это мой друг, – сказал я девушке. – Фронтовой товарищ. Единственный из знакомых мне людей, который из великого несчастья создал себе маленькое счастье. Он уже не знает, что делать с собственной жизнью, и поэтому просто радуется тому, что еще живет.
Она задумчиво посмотрела на меня. Косая полоска света освещала ее лоб и губы.
– Все это я очень хорошо понимаю, – сказала она.
Я взглянул на нее.
– Нет, вам этого понимать пока что не следует. Вы еще слишком молоды.
Она улыбнулась легкой, едва заметной улыбкой. Улыбались только глаза. Лицо же ее почти не изменилось, разве что просветлело, засветилось изнутри.
– Слишком молода! – повторила она. – Это только так принято говорить. По-моему, человек никогда не бывает слишком молодым. Напротив, он всегда слишком стар.
С минуту я молчал.
– Тут вам можно бы многое возразить, – сказал я потом и жестом попросил Фреда принести мне еще что-нибудь.
Девушка вела себя уверенно и естественно. Рядом с ней я чувствовал себя прямо-таки бревном. С каким удовольствием я завел бы легкий, игривый разговор, тот самый настоящий разговор, который, как правило, с опозданием приходит на ум, когда ты снова один-одинешенек. Вот Ленц – тот мастерски вел такие разговоры. У меня же они с самого начала получались неловкими и тяжеловесными. Готтфрид не без оснований говорил про меня, что как собеседник я нахожусь примерно на уровне самого скромного почтового служащего.
К счастью, Фред был разумным человеком. Вместо прежних наперстков он принес мне сразу большой и полный бокал. Это избавляло его от лишней беготни, и теперь никто уже не мог бы заметить, сколько я пью. А пить мне было необходимо – иначе я бы никак не отделался от этой тягостной скованности.
– Не выпить ли вам еще рюмку мартини? – спросил я девушку.
– А вы-то сами что пьете?
– Это ром.
Она внимательно посмотрела на мой бокал.
– Вы ведь и в прошлый раз пили то же самое.
– Да, – сказал я, – это я пью почти всегда.
Она покачала головой:
– Но разве это вкусно? Не представляю себе.
– Вкусно? Об этом я уже давно не задумываюсь, – сказал я.
– Так зачем же вы это пьете?
– Ром, – сказал я, обрадованный, что нашлась тема, на которую я могу поговорить, – ром, видите ли, и вкус – вещи, почти не связанные между собой. Это уже не просто напиток, а, так сказать, друг. Друг, с которым все становится легче. Друг, изменяющий мир. Поэтому, собственно, и пьют… – Я отодвинул бокал в сторону. – Так заказать вам все-таки еще один мартини?
– Лучше ром, – сказала она. – Хочется и мне хоть разок попробовать его.
– Хорошо, – ответил я. – Только не этот. Для начала он слишком крепок. Принеси нам коктейль «Баккарди», – крикнул я Фреду.
Фред принес заказ, добавив к нему тарелку с соленым миндалем и жареными кофейными зернами.
– Оставь здесь всю бутылку, – сказал я.
Постепенно все стало доступным, все озарилось ярким блеском. Исчезла неуверенность, слова возникали сами собой, и я уже не так внимательно следил за тем, что говорю. Я продолжал пить и чувствовал, как на меня накатывается огромная и нежная волна, как она подхватывает меня, как этот пустой сумеречный час наполняется образами, как над равнодушными и серыми пространствами бытия призрачной и безмолвной вереницей опять воспарили и потянулись вдаль мечты. Стены бара раздвинулись, и вдруг бар перестал существовать, а вместо него возник какой-то уголок мира, какое-то пристанище, полутемное укрытие, где притаились мы, непостижимо сведенные воедино, занесенные сюда смутным ветром времени. Съежившись, девушка сидела на своем стуле, чужая и таинственная, будто ее прибило сюда с другой стороны жизни. Я слышал свои слова, но мне казалось, что это уже не я, что говорит кто-то другой, человек, которым я хотел бы быть. Мои слова становились неточными, они смещались по смыслу, врывались в пестрые сферы, ничуть не похожие на те, в которых происходили маленькие события моей жизни. Я понимал, что слова мои – неправда, что они перешли в фантазию и ложь, но это меня не тревожило, ибо правда была бесцветной, она никого не утешала, а истинной жизнью были только чувства и отблески мечты…
Медная обшивка полыхала отраженными огнями. Время от времени Валентин поднимал свою рюмку и бормотал себе под нос какую-то дату. За окнами приглушенно плескалась улица, оглашаемая сигналами клаксонов, похожими на крики хищных птиц. Когда открывалась дверь, улица внезапно становилась шумливой и скандальной, словно крикливая и завистливая старуха.
Я проводил Патрицию Хольман до ее дома. Уже было темно. Обратно я шел медленным шагом. Вдруг я почувствовал себя одиноким и опустошенным. Сеялся мелкий дождь. Я остановился перед какой-то витриной и лишь теперь почувствовал, что перепил. Хоть я и не качался, но это ощущение было совершенно отчетливым.
Мне стало очень жарко. Я расстегнул пальто и сдвинул шляпу на затылок. Проклятие! Неужто эти капли опять опрокинули меня! Чего я ей только не наболтал! Я даже не решался поточнее разобраться во всем. Да и не помнил я ничего, и это было самым страшным. Теперь, когда я стоял один на холодной улице и мимо с грохотом проносились автобусы, все выглядело совсем по-иному, чем в полумраке бара. Я проклинал себя. Хорошее же впечатление произвел я на эту девушку! Уж она-то, конечно, все заметила. Сама почти ничего не пила. А при прощании так странно посмотрела на меня…
О Господи!.. Я круто повернулся и столкнулся с проходившим мимо толстеньким коротышом.
– Это еще что! – злобно рявкнул я.
– Протри глаза, чучело гороховое! – огрызнулся толстяк.
Я вытаращился на него.
– Людей ты, что ли, не видел? – тявкнул он.
Я словно только этого и ждал.
– Людей-то я видел, – сказал я, – но разгуливающую пивную бочку вижу впервые.
Толстяк не полез в карман за словом. Остановившись и разбухая на моих глазах, он процедил сквозь зубы:
– Знаешь что? Пошел бы ты к себе в зоопарк! Мечтательным кенгуру нечего шляться по улицам!
Я понял, что передо мной весьма квалифицированный мастер перебранки. И все-таки, несмотря на всю мою подавленность, я должен был позаботиться о своей чести.
– Топай, топай, псих несчастный, недоносок семимесячный, – сказал я и благословил его жестом. Но он не внял моим словам.
– Пусть тебе впрыснут бетон в мозги, идиот морщинистый, болван собачий! – продолжал он лаять.
Я обозвал его плоскостопым декадентом; он меня – вылинявшим какаду; я его – безработным мойщиком трупов. Тогда, уже с некоторым уважением, он охарактеризовал меня как бычью голову, пораженную раком, я же его – чтобы окончательно доконать – как ходячее кладбище бифштексов. И вот тут он просиял.
– «Ходячее кладбище бифштексов» – это здорово! – сказал он. – Такого еще не слышал. Включу в свой репертуар! До встречи…
Он вежливо приподнял шляпу, и мы расстались, преисполненные уважения друг к другу.
Эта перепалка несколько освежила меня. Но чувство досады не прошло. Напротив, чем больше я трезвел, тем оно становилось сильнее. Я казался себе каким-то выжатым мокрым полотенцем. Постепенно я начинал злиться уже не только на себя, но и на весь мир, в том числе и на эту девушку. Ведь напился-то я из-за нее. Я поднял воротник пальто. Ладно, пусть себе думает, что хочет. Мне все равно. По крайней мере сразу узнала, с кем имеет дело. Изменить уже ничего нельзя. Может, так оно и к лучшему…
Я вернулся в бар и только теперь напился до зеленых чертиков.