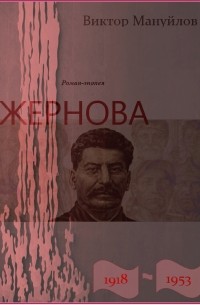Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Часть сорок седьмая
Глава 1
Александр Возницын отложил в сторону кисть и устало разогнул спину. За последние годы он несколько погрузнел, когда-то густые волосы превратились в легкие белые кудельки, обрамляющие обширную лысину. Пожалуй, только руки остались прежними: широкие ладони с длинными крепкими и очень чуткими пальцами торчали из потертых рукавов вельветовой куртки и жили как бы отдельной от их хозяина жизнью, да глаза светились той же проницательностью и детским удивлением.
Мастерская, завещанная ему художником Новиковым, уцелевшая в годы войны, была перепланирована и уменьшена, отдав часть площади двум комнатам для детей. Теперь для работы оставалось небольшое пространство возле одного из двух венецианских окон, второе отошло к жилым помещениям. Но Александр не жаловался: другие и этого не имеют.
Потирая обеими руками поясницу, он отошел от холста. С огромного полотна на Александра смотрели десятка полтора людей, смотрели с той неумолимой требовательностью и надеждой, с какой смотрят на человека, от которого зависит не только их благополучие, но и жизнь. Это были блокадники, с испитыми лицами и тощими телами, одетые бог знает во что, в основном женщины и дети, старики и старухи, пришедшие к Неве за водой. За их спинами виднелась темная глыба Исаакия, задернутая морозной дымкой, вздыбленная статуя Петра Первого, обложенная мешками с песком; угол Адмиралтейства казался куском грязноватого льда, а перед всем этим тянулись изломанные тени проходящего строя бойцов, – одни только длинные косые тени, отбрасываемые тусклым светом заходящего солнца.
Картина, скованная морозом и сосредоточенным молчанием людей, была настолько жуткая, что Александру порой казалось, что он рисовал это с натуры, что он знал поименно этих людей, оживших на его полотне, что никуда не уезжал из города, голодал и умирал вместе с ними. А еще в нем крепла уверенность, что эта обнаженная правда ушедшего времени, пугающая его самого, еще больше может испугать тех, от кого зависит, увидит это полотно зрителя, или нет.
Он работал над этим полотном больше двух лет, и сейчас, когда картина была закончена, не мог с точностью сказать, что же он хотел ею выразить. Блокаду? Да, конечно. Трагедию людей, гибнущих от голода и холода, от бомбежек и артобстрелов? Да, и это тоже. Но не это самое главное. Главное заключалось в чем-то другом, и это что-то не давалось назваться каким-то определенным именем, оно вмещало в себя слишком много – даже больше, чем война, выходя за рамки картины, распространяясь во все стороны в неохватные глазом дали…
Глухо хлопнула входная дверь, деревянные ступени лестницы весело откликнулись на топот детских ног. Звонко стукнула еще одна дверь, на сей раз коридорная, и стало слышно, как шумят и возятся возвратившиеся из школы дети, как жена выговаривает им за это: папе работать мешать нельзя.
Александр улыбнулся, опустился в глубокое кресло. Он чувствовал себя безмерно уставшим, но досаждала ему не усталость, а странное ощущение незавершенности работы, и он снова и снова вглядывался в картину, пытаясь понять, в чем же эта незавершенность заключается. В том, что он не изобразил шагающих по улице бойцов? Но в одном из вариантов он их изобразил и поразился тому, насколько эти бойцы отличаются от жителей блокадного города. Получалось, что эти изможденные голодом люди смотрят на бойцов не столько с надеждой, сколько с удивлением: вот ведь, оказывается, есть в этом городе сытые, сильные, способные так свободно двигаться, таким ровным и ничем не стесненным шагом. В их взглядах не было зависти, зато обреченность сквозила во всем. Поэтому Александр и убрал шагающих бойцов, оставив одни лишь их тени. И картина даже выиграла от этого: исчезла обреченность, засветилась надежда. Но что-то существенное осталось недосказанным. И Александр, отрешившись от полотна и вернувшись к реальности, думал теперь, что все дело в том, что сам-то он блокаду не переживал, не голодал вместе со всеми, не испытал тех чувств, которые испытали нарисованные им люди. Так что же получается – два года напрасного труда? Или ему только кажется, что в картине чего-то не хватает? Наверное, так оно и есть. Надо отвлечься от нее, поставить лицом к стене и заняться новой работой. Но картина держала его и не отпускала.
Дверь в мастерскую тихонько отворилась, и Александр услыхал тихие и робкие шаги своей девятилетней дочери. Вот она подошла и остановилась сзади, не решаясь нарушить его молчание.
– Тебе чего, Аленушка? – спросил Александр.
– Мама зовет обедать, – шепотом ответила дочь.
– Иди ко мне, – протянул он ей руку.
Девочка приблизилась и встала рядом. Она поразительно была похожа на него, своего отца, и Александр всегда с некоторым удивлением вглядывался в ее черты. Дочь вложила в его руку свою ладошку, он поставил ее напротив, спросил:
– Как дела в школе, малыш?
– Хорошо, папочка. Я получила пять по арифметике и четыре по рисованию. – И пояснила: – У меня никак не получается лошадка.
– Ничего, малыш, подрастешь – получится. Да и четверка тоже хорошая оценка. Я вот картину нарисовал и боюсь, что на троечку.
– На троечку? Вот и не правда! У меня так никогда не получится, – покачала головой Аленка, вглядываясь в картину. Пожаловалась: – Мама говорит, что у меня нет способностей к рисованию. Она говорит, что ты пожалел и не оставил для нас ни капельки, все взял себе.
– Мама шутит, малыш, – улыбнулся Александр, привлекая дочку к себе и испытывая сладкое чувство отцовства от ощущения тепла родного тела, передающегося ему. – Ты еще научишься рисовать. Вот увидишь, – произнес он с уверенностью.
Затем поднялся, снял с себя испачканную красками куртку и, держа ребенка за руку, пошел в столовую, где вокруг обеденного стола уже сидели его дети: два сына, учащиеся девятого и восьмого класса, и младшая дочь пяти лет, родившаяся в эвакуации на Алтае. Отсутствовали самые старшие, двойняшки-десятиклассники: у них там какое-то мероприятие по комсомольской линии.
Аннушка разливала по тарелкам суп. Она располнела, раздалась в ширь, как и положено женщине, родившей шестерых детей, но не утратила мягкого очарования больших серых глаз и овального лица, излучающего готовность придти на помощь любому из сидящих за столом.
– Та-ак, что у нас сегодня на обед? – задал Александр обычный свой вопрос, заглядывая в тарелку. – Суп с фрикадельками? Оч-чень хорошо. Давно мы не ели суп с фрикадельками. Или я ошибаюсь? – И посмотрел на старших.
– Как всегда, папа, – смиренно ответил старший. – Вчера тоже был суп с фрикадельками.
– Поразительно, – смущенно пробормотал Александр, помешивая ложкой в своей тарелке.
Он хотел было сказать, что в блокаду за тарелку такого супа отдавали фамильные драгоценности, картины великих мастеров прошлого века, что находились люди, которые могли оторвать от себя, без всякого ущерба, не только тарелку супа, но и кое-что посущественнее. И это в городе, умирающем от голода. Но не сказал. Не исключено, что он уже говорил об этом, а если и не говорил, то лучше и не касаться этой темы при детях: в свое время узнают, а пока… И без того хватает такого, что лучше бы и не знать…
Так чего же все-таки нет в его картине?
После обеда Александр часок вздремнул на диване в мастерской, затем оделся и вышел из дому. Он шел по Невскому к Неве, затерявшись в текучей толпе, ничем в ней не выделяясь. Вглядываясь в лица спешащих по своим делам людей, в лица озабоченные и в большинстве своем женские, он по каким-то неуловимым признакам угадывал тех, кто никуда из Ленинграда во время войны не уезжал, вынес на своих плечах весь ужас блокады, наблюдая, как умирают близкие люди, чувствуя свою беспомощность. В их глазах навеки застыла мука пережитых месяцев и дней, и трудно было понять, откуда они черпали и черпают до сих пор силы, чтобы жить.
А природа творила свой извечный круговорот, и ничто человеческое не отражалось на плывущих в небе облаках, сияющем солнце, разве что в терпком весеннем ветре, тянувшем со стороны залива, да сильнее чувствовался дым кораблей, стоящих в устье Невы. Но весна подавляла все. Она торжествовала в набухающих на березах и липах почках, в гомоне воробьев, в криках чаек, в перещелкивании и пересвистывании скворцов в садах и скверах, в синеве неба, в пыхтении на Неве ледокола, ломающего лед. И даже во взглядах и лицах людей, полнящихся новыми надеждами, в звонких криках детей в Александровском саду.
Возницын вышел к Неве, остановился на том месте, откуда писал эскизы для своей картины: панорама Сенатской площади, «Медный всадник», Адмиралтейство, Исаакий… Сами по себе они не несли ничего трагического. Трагизм исходил от людей, от санок с бидонами для воды, от бессильно опустившейся на сугроб женщины, от распахнутых глаз девочки на испитом лице, закутанной в материнский платок, от молодой и пожилой женщин, пережидающих колонну, везущих на кладбище чей-то труп, завернутый в зеленое покрывало… Он видел такие картины на многочисленных фотографиях, в кинохронике тех лет. А еще он знал, что такое голод, но тот голод, испытанный им в детстве, все-таки был не таким голодом, как в блокаду.
Сколько раз он приходил сюда и в прошлую зиму и в эту, выбирая самые морозные дни, торопливыми мазками писал эскизы, отыскивая такую точку, чтобы каждый, глянув на картину, мог сразу же понять, что это Ленинград – и никакой другой город. Сколько раз возле него останавливались люди, самые разные люди, и именно тогда он научился угадывать, кто из них пережил блокаду, а кто, как и он сам, жил вдали от Ленинграда, не испытывая всего, что пережили эти люди и сам город.
Глава 2
– Возницын?
Александр вздрогнул, поднял голову. Напротив стоял широкий человек в длинном сером плаще, перетянутом поясом по заметно выпирающему животу, серая шляпа закрывала глаза, из-под шляпы выглядывал слегка приплюснутый нос, нависший над полными губами, окруженными густой щетиной.
– Не узнаешь? – спросил человек, приподнимая шляпу и открывая обширную лысину, обрамленную валиком перепутанных волос.
– Марк? Либерман? Не может быть! – воскликнул Александр.
– Почему же не может? Очень даже может. Разрешаю потрогать, чтобы тебе не казалось, что я – привидение, – не разделил с ним радости Марк.
Александр протянул руку.
– Ты очень изменился. Если бы не голос, я бы и не узнал, – оправдывался он, тиская руку Марка. – Хотя, увы, годы берут свое. И никто не исключение. Рассказывай, как поживаешь.
– Да что ж рассказывать? Поживаю, как все.
– Мне говорили, что ты перебрался в Москву… Правда, это было еще до войны…
– Было дело, но… вредна столица для меня.
– Что ж так?
– Да так – долго рассказывать.
– А чем занимаешься?
– Оформительством, украшательством и прочими штучками-дрючками. А ты?
– Да все тем же и все там же.
– Завидное постоянство, – усмехнулся Марк знакомой ядовитой усмешкой. – Ты хорошо приспособился, Александр: все, что ты пишешь, тут же объявляется классикой. Тебе никакие морозы не страшны, никакие поветрия…
– Я пишу то, что пишется, – набычился Александр. И уточнил: – Я пишу жизнь, а ты по-прежнему ее декорируешь то в черные, то в светлые тона… В зависимости от погоды, надо думать.
– Ты как не понимал искусства, так и не понимаешь до сих пор, товарищ Возницын…
– И очень доволен своим непониманием, товарищ Либерман. Понимающих много, а художников – увы.
– А ты, значит, настоящий художник?
– Это решать потомкам. Хотя и я, грешным делом, думаю, что так оно и есть.
– Удобная позиция, – презрительно скривил толстые губы Марк.
– Да уж какая есть, – проворчал Александр, отступая.
Раньше он всегда пасовал в словесных баталиях перед Марком, перед его напором. Теперь он не почувствовал былого трепета, его лишь удивила вызывающая враждебность Марка. Чтобы как-то приглушить свою неловкость, он полез в карман за папиросами, но вспомнил, что папирос там нет, потому что недавно бросил курить, махнул рукой, повернулся и пошел вдоль набережной, даже не кивнув бывшему приятелю на прощание.
– Ничего, придет время, и твои картины буду пылиться в запасниках, – бросил Марк ему в спину.
Возницын не обернулся, засунул поглубже руки в карманы пальто и ускорил шаги. На душе у него было нехорошо. И не от пророчества Марка, а оттого, что весна, картина – и вдруг Марк, как напоминание о прошлых заблуждениях, как покосившийся верстовой столб на давно заброшенной дороге. Он вспомнил, что года два-три назад имя Марка мелькнуло в статье, в которой громились космополиты, приверженцы западных образцов творчества, растлевающих душу и сознание масс. И что-то еще в этом роде. Марк тогда жил в Москве: то ли женился на москвичке, то ли еще что. В ту пору много было всяких статей на эту тему, собраний в союзе художников, споров и проклятий. Доставалось всем, не обошли стороной и Возницына. Впрочем, и сейчас все это продолжается, но в несколько другой тональности, и стало заметно, что произошло вполне видимое расслоение творческой интеллигенции на космополитов и патриотов, и Возницына прочно причислили ко второй группе. Ему даже предлагали выступить по радио или написать статью, но он отнекивался, боясь всякой публичности, полагая, что его работа и есть доказательство его позиции, а скрипеть пером – не его дело. Статью написали другие, Александру предложили подписать – и он подписал ее, тем более что там уже стояли подписи уважаемых им старших коллег-художников. Видимо, вся эта кампания сильно ударила по Марку и его друзьям, как она уже била по ним в середине тридцатых годов. Ударить-то ударила, да только не по их благополучию: выглядит он весьма солидно, явно не бедствует, а желчи у него хватало и в молодости.
Возницын свернул на площадь, пересек ее, вышел к собору, остановился, точно налетел на препятствие: возле колонны стояла женщина в черном платке и в черном же пальто, мелко крестилась и так же мелко кланялась в сторону парадного входа в собор. Было что-то в этой женщине, хотя он и не видел ее лица, от нестеровских богомолок, от суриковских печальниц за землю русскую. И неважно, о чем она просила своего бога перед вратами величественного и мертвого храма, важно, что она просила. Другие не просят, а она вот пришла, считая, видимо, что здесь ближе к богу, слышнее ее молитвы.
И тут что-то забрезжило в воображении Александра – и он увидел эту женщину в толпе на своей картине, в толпе, ожидающей, когда пройдет воинская колонна, и, забыв о Марке, заспешил домой, в мастерскую, боясь, что из его воображения ускользнет образ этой женщины – женщины, благословляющей солдат, идущих на передовую.
Дома его ждали. Аннушка, встретив у двери, предупредила:
– Писатель Задонов, Алексей Петрович. Уже полчаса сидит у нас. Говорит, что ты будто бы с ним договаривался о встрече.
– Да-да, договаривался, но не конкретно. Надеюсь, ты его напоила чаем?
– Напоила. Пыталась накормить, но он отказался. Я не знала, когда ты придешь…
– Ничего, ничего, все нормально.
И Возницын вступил в комнату, а навстречу ему поднялся человек с копною светло-русых волос на голове, прихваченных сединой на висках, немного полноватый, но не слишком, прямой той барственной прямотой, которая вырабатывается с детства гувернантками и гувернерами, с несколько сероватым лицом человека, явно злоупотребляющего алкоголем и редко бывающем на свежем воздухе, в добротном заграничном костюме и ярком галстуке. С тех пор, как они виделись последний раз, прошло больше года, за это время Задонов явно постарел, его будто придавило к земле, хотя старая закваска действовала, не давая ему согнуться окончательно.
Все это Возницын схватил наметанным глазом художника, улыбнулся и шагнул навстречу гостю, протягивая руку. И Задонов улыбнулся ему широко и открыто, они обнялись, хотя никогда не были друзьями, а познакомились более года назад в Москве на вручении Сталинских премий. Правда, потом был вечер, проведенный вместе в ресторане гостиницы «Москва», в шумной компании литераторов и художников. Сидели рядом, разговорились и почувствовали, что между ними есть много общего, соединяющего. Там же Возницын пригласил Задонова к себе, если тот окажется в Ленинграде, предложил написать его портрет.
– А я уже успел познакомиться и с вашей очаровательной женой, и с вашими детьми. Только в мастерскую без вас меня не пустили, и правильно сделали, – говорил Задонов, улыбаясь и лукаво щурясь, в то время как Аннушка смущенно перебирала пальцами свой передник. – Поэтому можете себе представить, Александр Трофимович, с каким нетерпением я вас ожидал.
– Ничего, еще заглянем, Алексей Петрович. Непременно заглянем. Более того, мне будет интересно узнать ваше мнение о кое-каких моих картинах, которые еще никто не видел. Ну и… наш договор, надеюсь, остается в силе?
– Остается, остается! – воскликнул Алексей Петрович. – Я на старости лет стал таким честолюбивым, что сам на себя в зеркало наглядеться не могу и все мечтаю, чтобы мои портреты красовались везде и всюду, смущая нахальным взглядом добропорядочных гражданок. Уж вы, Александр Трофимыч, будьте так добры и придайте моему взгляду что-нибудь этакое вольтеровско-бонапартовское, но с обязательной примесью чего-нибудь нижегородского. Иначе и мне и вам несдобровать: тут же зачислят в космополиты, в какие-нибудь антифобии.
– Все будет, как вы хотите, Алексей Петрович, – поддакивал Возницын, широко улыбаясь. Ему нравилась эта раскованность и даже некоторая развязность Задонова, не переходящая, однако, границ приличия, его смелые суждения обо всем, сдобренные иронией, свидетельствующие об уме и большой эрудиции, чего так не хватало самому Возницыну.
В мастерской, где на станках стояло несколько холстов с законченными или недоконченными работами, Алексей Петрович сразу выделил блокадников, остановился перед ними и долго вглядывался в испитые лица людей. Он то приближался к картине, то отходил от нее, затем повернулся к художнику, произнес:
– Я думаю, это будет сильная вещь, когда вы ее закончите.
– Вы считаете, что она не закончена? – удивился Александр проницательности писателя.
– А разве… Гм… Честно говоря, мне показалось, что здесь не хватает какого-то завершающего штриха. Что-нибудь такого… ну, как, например, юродивого у Сурикова в «Боярыне Морозовой»…
– Да-да! – воскликнул Возницын. – Именно юродивого. То есть, не его самого, а нечто благословляющее идущих на смерть. И вы знаете, Алексей Петрович, я как раз только полчаса назад об этом догадался, и не где-нибудь, а возле Исаакия! Увидел там молящуюся женщину и понял, чего не хватает моей картине, и кинулся домой…
– Но тут, должен вам заметить, нужна большая тонкость, имея в виду наши нынешние общественные пристрастия…
– Да, я вас понимаю, очень хорошо понимаю, – вторил Задонову Возницын, потирая руки. – Но ведь это и есть правда жизни. Разве не так?
– Так-то оно так, да есть и другая правда, и ее-то вам и сунут в нос, если вы… Впрочем, я уверен, что ваш талант найдет золотую середину и посрамит всех добровольных цензоров.
– Я постараюсь…
– Видимо, я пришел не вовремя, – произнес Задонов и, заметив протестующий жест художника, решительно заявил: – Давайте сделаем так: вы заканчивайте картину, а я к вам зайду дня через три-четыре. И не спорьте со мной: я слишком хорошо знаю, что такое схватить жар-птицу за хвост и упустить ее. Тем более что сегодня я не в форме: приехал вчера, и, как водится, встреча, застолье и все такое прочее. Я, признаться, даже не имел в виду заходить к вам именно сегодня. Так уж получилось, что вышел проветриться и оказался возле вашего дома. Так что беритесь за работу, и не мучайтесь никакими сомнениями… Впрочем, вот вам телефон моего номера в гостинице, как закончите, звоните.
И Возницын, проводив гостя, вернулся в мастерскую и взялся за кисти.