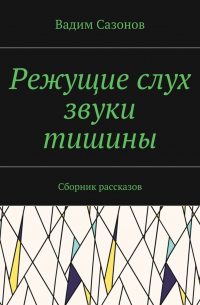Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
© Вадим Сазонов, 2016
ISBN 978-5-4483-4491-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Режущие слух звуки тишины
1.Занедолго до сегодня
Начинало смеркаться, я вышел на улицу, закончилась моя дневная смена, надвинул козырек бейсболки пониже, срезав себе обзор верхних этажей домов, накинул капюшон, настроил слух на обеспечение безопасности и двинулся в сторону метро.
Ничто не заставляло беспокоиться. Шаги прохожих вливались в мой мозг, анализировались, исчезали, никто не шел за мной дольше случайно распределенной длительности неподозрительного совпадения пути. Исчезали, сменялись другими, которые тоже исчезали на очередном перекрестке, все было спокойно, не пугало.
Только после пересечения Клочкова переулка я понял, что одна пара ног идет за мной уже достаточно долго, хотя я, избегая прямых дорог, не двигался по проспекту Пятилеток, а петлял дворами. Неужели опасность? Я свернул в сторону Коллонтай, хотя к метро было ближе через арку торгового центра. Шаги, которые я вычислил, не отставали, напрягали, я, не оборачиваясь и не поднимая головы, перебежал проезжую часть переулка к аптеке «Озерки», шаги за мной не последовали, значит, ложная тревога.
В метро анализировать было сложнее, общий поток двигался в одном направлении, потом делился на две части, распределяясь по разным сторонам платформы. В общественном транспорте я анализировал дыхание, кашель, сопение и иные звуки, которые позволяли идентифицировать разных субъектов, находящихся рядом. Здесь было тяжело определить возможную слежку, нельзя было менять направление движения. Не любил я общественный транспорт, в нем нельзя было точно определиться с потенциальным источником опасности. Каждая поездка стоила мне дополнительных нервов, но вот, наконец, я на Площади Мужества, дальше можно пешком, меняя направления, проходя путь, требующий минут пятнадцати-двадцати, более, чем за полчаса.
Облеченный вздох – я дома.
Прежде всего – закрыть форточки, которые оставил утром открытыми для проветривания, задвинуть тяжелые, непрозрачные шторы, включить свет, надеть войлочные тапки, которые практически не издавали звуков при ходьбе, и почувствовать себя в безопасности в замкнутом пространстве. Когда-то я ходил дома босиком, но потом понял, что при соприкосновении с кафельными плитками в ванной, на кухне, в прихожей босые ступни издают звук «отлипания» от холодного камня, а, значит, выдают меня. Теперь только войлок тапок, который не потеет. Можно было, кончено, все застелить ковриками или ковролином, но ворс, распрямляясь, издавал звук, который я слышал четче, чем мягкое поскрипывание о паркет скатанной подошвы.
Осмотрел снятые ботинок, мягкие наклейки на них стерлись, поэтому сегодня я так отчетливо слышал собственные шаги на улице. Пришлось соскоблить остатки «глушилок», наклеить новые куски толстого трикотажа. Как мне повезло однажды купить целый рулон этого синтетического полотна, которое подолгу не изнашивалось и прекрасно поглощало звук соприкосновения ботинка с асфальтом, я был неслышен, а, следовательно, меня нельзя было вычислить, определить.
Включив телевизор, как обычно, без звука, пошел на кухню, разогреть ужин. Я пользовался только газовой плитой, не признавал микроволновки, которая издавала слишком много звуков. Я даже мылся и мыл посуду холодной водой, потому что включение «водогрея», могли выдать мое присутствие. Для открытия крана выжидал, когда слух подскажет, что кто-то в нашем стояке включил воду, и нельзя точно определить, откуда будет исходить звук бегущего по фановой трубе потока.
Очень раздражала необходимость пользоваться сливом в унитазе, который оповещал всех соседей о том, что я дома. Превозмогая отвращение к тяжелому запаху, использовал кнопку бочка только непосредственно перед выходом из квартиры.
2.Задолго до сегодня
Острый слух я имел, видимо, от рождения, но в детстве еще не анализировал, что он может мне дать. Так же с рождения я имел абсолютную память – помнил все до мельчайшей подробности, помнил то, что ребенок обычно не помнит.
Я всегда спокойно засыпал, если слышал через стену ровное дыхание мамы и папы, или даже их взволнованное дыхание, если они еще смотрели телевизор. Да, я умел слышать их дыхание сквозь звуки фильма.
Однажды, проснувшись, услыхал стоны и прерывистое дыхание родителей.
Тогда мне впервые стало страшно. Мне стало страшно, что им угрожает какая-то опасность, и тогда мое еще несформированное сознание пронизала отчетливая мысль – всякая опасность для них – это опасность для меня. Я расплакался.
Мама объяснила, что это они так играли с папой.
Конечно, теперь уже давно понимаю, что это была за игра, но тогда я долго не мог успокоиться. Наверное, с той ночи я стал уделять больше внимания тому, что доносил до меня мой очень острый слух, выискивая в звуках возможные опасности, я начал анализировать звуки.
Больше ни разу не слышал «игры» моих родителей. Они были очень внимательны ко мне и постоянно старались ограждать меня от волнений. Я им очень за это благодарен.
Мы каждое лето выезжали на дачу под Ленинград. Это действительно был выезд.
Нанимался фургон, в который грузили посуду, стулья, матрацы, белье, мои игрушки, раскладушки (для гостей, которых бывало немало), кресло-качалку и много еще необходимых для дачной жизни вещей. С фургоном уезжал папа, а мы с мамой шли на Ланскую и ехали на электричке.
В конце лета опять нанимался фургон, и все происходило в обратном порядке.
Я всегда мечтал однажды поехать не на электричке, а в фургоне.
Мечта сбылась, когда мне было почти шесть лет – день рождения у меня осенью.
Дачу снимали на три летних месяца, отпуск у родителей – месяц, поэтому со мной на даче жила бабушка – мамина мама. Мама и папа приезжали на выходные, иногда ночевали и в будние дни.
Однажды в пятницу вечером вместо них приехал дядя Коля – мамин брат, которого я знал очень плохо, он почти у нас не бывал, как говорила мама: «У него совсем своя жизнь».
Я уже лежал в постели в своей комнате, но слышал, как дядя Коля на веранде говорил бабушке:
– Хрен его знает, они ничего не слышали, видать. Говорят, они переходили и смеялись, а этот придурок летел на полной скорости. Грузовик, ты же понимаешь!
Бабушка плакала, мне казалось, что она воет, как зверь из сказки, было очень страшно, у меня была истерика, но никто не пришел, мамы с папой не было, а бабушка и дядя не слышали, они слышали только друг друга.
Мне никто ничего тогда, тем вечером, не объяснял, я просто сам понял, что родители больше не приедут ко мне, а еще я понял, что они не приедут, потому что не услышали что-то. Наверное, тогда, хотя, может быть, мне так кажется, понял, что слух дан мне, чтобы спасаться от опасности. Тогда я еще не знал, что опаснее всего – это те, кто рядом, тогда еще не сформировался мой инстинкт самосохранения. В тот момент я только понял значение слуха, понял, зачем он мне дан, надо было только в совершенстве научиться им пользоваться.
Окончательно я осознал, что значит слух, когда ехал в то лето с дачи.
Бабушку забрала белая машина с красным крестом, остался дядя Коля, который объявил, что теперь будет жить со мной, что нам пора собираться.
Приехал фургон.
Погрузили вещи.
– Я не могу его в кабину взять, – объяснял водитель, – первый же ГАИшник остановит. Нельзя ребенка.
– Пусть в кузове едет, – решил дядя Коля, – запри его там, никто и не увидит.
В фургоне было темно. Я ничего не видел, сидя на матрасе, вцепившись пальцами в какую-то рейку, набитую вдоль кузова. Не передать, как мне было страшно, но я слышал…
Я слышал машины, которые мы обгоняли, которые нас обгоняли. Я слышал шуршание шин об асфальт. Я слышал скрип педалей, которые нажимал водитель. Я научился различать звук педали, которая увеличивала скорость и той, которая уменьшала скорость, была еще третья, значение которой я не смог понять, но она издавала свой особый звук. Я слышал стон деревьев, росших вдоль дороги – было ветрено. Я слышал шорох, с которым резали воздух крылья птиц, пролетавших рядом. Я слушал непонятный периодический лопающийся треск, значение которого понял, когда уже в городе увидел на капоте и стекле машины расплющенные тела насекомых. Я слышал позвякивание цепи велосипеда, который мы обгоняли. Я слышал голоса водителя и своего дяди. Боялся, что водитель за разговором может что-то сделать не так, и мы попадем в аварию.
Именно тогда я ощутил, что слух заменяет мне остальные чувства, что только он меня не обманывает.
Я еще тогда не знал, что главная опасность исходит от близких людей, в тот момент от дяди Коли.
Мы стали жить с дядей вдвоем в нашей квартире.
Несколько раз приходила бабушка, но сын ее не пускал внутрь, выходил к ней на лестничную площадку, они разговаривали, а я слушал через закрытую дверь, сидя в дальней комнате. Мне их разговор был непонятен: «Что ты от меня хочешь? Ты еще в детстве меня достала своими нравоучениями!», «Да, это теперь моя квартира с этим довеском», «Оформление опекунства» и тому подобные фразы, смысл которых для меня был неясен.
А потом бабушка перестала приходить, она, как и мама с папой, меня бросила.
Очень нескоро я узнал, что она попала в больницу, а вскоре и умерла.
Дядя Коля часто приходил поздно ночью, с ним проявлялись его знакомые, они шумно сидели на кухне, я задыхался от табачного дыма, сочившегося в мою комнату, не мог уснуть, а, если засыпал, то с криком просыпался от кошмаров. Потом лежал в ночной темноте и слушал сквозь крики на кухне, что происходит в соседних квартирах.
Я уже услышал, что через два этажа над нами появился щенок, который скулил и стучал когтями по полу. Я знал, что в соседнем подъезде живет плохой мальчик, которого наказывают ремнем. Я слышал все вечерние телевизионные передачи всех каналов, которые приходили ко мне звуками с разных сторон.
Днем я бывал дома один, чтобы не страшиться звуков, я надевал зимнюю шапку, опускал ее «уши», завязывал, ложился на бок, на диван, клал подушку на второе ухо и читал.
Родители научили меня читать, когда мне было четыре. Я был семейной гордостью: «Он даже газеты может читать», – говорила гостям мама.
Теперь я читал все подряд: «Таинственный остров», «Теорию вероятностей», «Сагу о Форсайтах», «Учебник по математике для десятого класса», «Зарубежный детектив», «Тома Сойера», «Краткий курс ВКП (б)» и так далее. Я брал книги из шкафа с той полки, до которой мог дотянуться, слева направо.
Моя память все, что было непонятно, откладывала на дальние полочки. Уже потом, в старших классах, многие формулы, которые переставали быть просто картинками, а обретали смысл, непроизвольно всплывали в моей голове еще за секунду до того, как их напишет на доске учитель.
Но через пару месяцев я перестал лишать себя слуха при чтении, потому что лежа на диване, неожиданно увидел перед носом страшную физиономию одного из дядиных приятелей. Шок и ужас были так велики, что я еще несколько дней заикался.
Тогда я окончательно понял, что должен слышать все, что происходит вокруг, чтобы обеспечить свою безопасность. Никогда с тех пор ничто не закрывало мои уши, я научился распределять деятельность своего мозга – одна часть его поглощала информацию из книги, вторая анализировала то, что слышали уши.
Когда дядя Коля бывал дома один, я рассказывал ему то, что слышу, он курил и о чем-то думал, не нарушая мои рассказы вопросами.
А потом он стал водить меня к врачам, убеждая их в чем-то, и вот перед самым первым сентября, когда мне надо было идти в первый класс, я попал в специальный интернат.
Большая территория, огороженная высоким забором, много деревьев, дорожки, площадки с горками и качелями, огромное серое трехэтажное здание с решетками на окнах первых двух этажей. Здесь были и классы и комнаты, где жили ученики.
Когда меня туда привезли, в комнатах еще было мало детей, был конец лета, каникулы не закончились.
Мне скоро должно было исполниться семь.
В моей комнате было четыре кровати, и только на двух было застелено белье. На одну из них и указала женщина в белом халате, которая встретила нас в вестибюле, забрала у дяди Коли сумку с моими вещами, сказав ему:
– Бумаги несите по первому этажу. Там кабинет директора.
Дядя Коля ушел по коридору, даже не взглянув на меня, ничего не сказав. Больше я его никогда не видел.
Очередной близкий человек, вслед за родителями и бабушкой, предал и бросил меня.
Я сидел на кровати, рядом стояла сумка, я слушал.
По зданию кто-то ходил, где-то гремели кастрюлями, где-то мокрой тряпкой терли пол, подо мной, наверное, в подвале, шуршали ножками какие-то животные. Чьи-то шаги приближались, в комнату вошел худенький бледный мальчик, остановился, смотрел на меня некоторое время, потом подошел ко второй застеленной постели и лег.
– Здравствуй, – сказал я, – меня зовут Вадик.
Мальчик сел на кровати, достал из тумбочки блокнот и карандаш, что-то написал и протянул мне:
«Ты умеешь читать?»
– Да, – удивленно ответил я.
Он опять написал и протянул мне блокнот.
«Меня зовут Веня. Я не говорю».
Так я познакомился с Вениамином.
Уже через несколько дней я узнал от тети Клавы, которая работала в интернате уборщицей, что все мы здесь делимся на «идиотов» и «психов». Я совершенно искренне спросил:
– А я кто?
Она с сомнением посмотрела на меня, вздохнула и ответила:
– Видать, псих, – и ушла вглубь коридора, что-то бормоча себе под нос.
Я бросился в комнату.
– Ты псих или идиот? – спросил у Вени.
Он написал:
«Псих. Я слышу музыку».
– Какую?
«Свою».
– Как это?
«Посмотри мне в глаза».
Я придвинул свое лицо к нему, не моргая, уставился в его зрачки. Ничего не происходило, но уже через секунду его взгляд затуманился, зрачки немного закатились, стало страшно, но в тот же момент в мои уши заструилась музыка. Это было волшебством, меня прошиб пот, но я не мог оторвать взгляда от лица Вениамина, от белков его глаз. Я глубоко дышал и слушал, начинала кружиться голова.
Он вернул зрачки на место, взял блокнот:
«Слышал?»
– Да, – выдохнул я и почти упал на свою кровать, сил не было. – Как ты это делаешь?
Я протянул руку, не глядя, взял блокнот:
«Не знаю. Так было всегда».
– Ты сам ее придумываешь?
«Иногда. Но сейчас я тебе исполнял Баха».
– А кто такие идиоты? – этот вопрос меня волновал.
«Это те, кто плохо учится. Они не соображают ничего. Ты в какой класс пойдешь?»
– В первый.
«Я во второй. С нами в комнате живут два идиота», – он кивнул на две не застеленные кровати.
– Они в твоем классе?
«В четвертом».
– Ты научишь меня слушать музыку?
«Для этого надо ее долго слушать на самом деле».
– Это как?
«Пластинки, приемник, телевизор».
– А ты где слушал?
«У меня родители были музыкантами».
– А где они?
«Они уехали в счастливую страну».
– Где это?
«Не знаю».
– А идиоты страшные?
«Нет. Как остальные».
– Почему они не психи?
«Они просто дураки».
– А мы?
«Мы психи. Мы не такие, как остальные. Идиоты, как остальные. Но глупые. Ничего понять не могут».
Пришло первое сентября. Мне выдали серую форму и белую рубашку. Меня посадили за вторую парту, а со мной рядом усадили Соню – девочку с белокурыми локонами и большими голубыми глазами – как Мальвина из сказки про деревянных кукол.
Вечером Веня, как местный старожил, ввел меня в курс дела:
«Она – псих. Она летает».
– Как?
«Как птица».
Я в этом удостоверился на третий день знакомства.
Соня стояла на перемене в коридоре и, медленно раскачивая головой, сгибала и разгибала пальцы, веки опущены.
Я притронулся к ее плечу:
– Ты чего?
Распахнув свои огромные глаза, она широко улыбнулась, взяла меня за руку:
– Полетай со мной, ты такой красивый!
Я смотрел в ее глаза, а потом с ужасом на свои ноги – они не касались пола, меня укачивало, сердце уходило в пятки. Я растопырил руки, пытался схватиться за стену, дергал ногами, чтобы коснуться пола, но все было тщетно, пока Соня не опустила веки, и я почти упал на паркет, чудом устояв на непослушных ногах.
Она опять открыла глаза и спокойно спросила:
– Здорово?
– Да! – выдохнул я. – Как ты это делаешь?
– Так принято в моей стране.
– А где твоя страна?
Она молча взяла мою руку и приложила к своей груди. И без этого мой слух отчетливо улавливал бешенный ритм ее сердца.
Идиотов в нашей комнате звали Леша и Саша. Они были намного крупнее нас с Веней и обладали еще одним огромным преимуществом – у них были родители, которые забирали их на выходные домой.
Они гоняли нас за чаем в столовую, отнимали печение, которое полагалось на ужин, рисовали в блокноте Вени противные картинки, не пускали нас подолгу в туалет, когда очень хотелось, смеялись, а Саша еще и сильно брызгал слюной, когда говорил.
У Леши был маленький приемник на батарейках. Я отдавал ему и печенье, и яблоко, которое выдавали на обед, даже компот и слушал по приемнику музыку, чтобы научиться слышать ее, как Веня.
В середине первого класса ко мне стала приходить высокая женщина в шубе, просила, чтобы я называл ее «Бабой Леной», приносила мне пироги и фрукты, подолгу беседовала с директором, нося ему какие-то бумаги.
Ее пироги обеспечивали мне почти круглосуточное прослушивание музыки.
В один из приходов она сказала:
– Я все равно тебя заберу! Чтобы мне это не стоило.
Потом еще выяснилось, что моя память хранит много полезных знаний. Я начал помогать Леше делать домашнее задание, у него появились хорошие оценки. Однажды он мне сказал:
– Ты мой друг. Слушай приемник, сколько хочешь.
Ближе к весне, ночью с субботы на воскресенье, к нам в комнату пришла Соня. Она была в длинной белой ночной рубашке. Шаги ее босых ног я услышал еще задолго до того, как она появилась в дверях.
Она молча прошла к моей кровати и забралась под одеяло, прижавшись ко мне:
– Полетаем?
Я уже привык к этому вопросу, мы летали почти каждый день.
– Ночью? – с испугом спросил я.
– Да. Ты улетишь в мою страну. Закрой глаза. Давай руку.
Я сжал ее ладошку и зажмурился.
Внизу неслись яркие фонари, дворцы, озера, леса, звучала прекрасная музыка, взлетали в небо фейерверки, на огромной площадке кружились пары одетые в красочные старинные одежды, как в книгах со сказками. Мы летели с Соней, взявшись за руки, потому опустились у одного из дворцов. Она взяла меня под руку, и мы стали подниматься по широкой белой лестнице с красивыми перилами, нам навстречу шли такие же пары детей в париках, камзолах и широких платьях. Мы вышли на площадку перед оркестром и закружились в танце, с неба падали конфетти, над головой кружили цветастые попугаи. Танцуя, я видел Буратино, Мальвину, черного пуделя, девочку в красной шапочке, осыпая нас инеем, над головой пролетели сани Снежной Королевы, Оловянные Солдатики стояли у входа, все было так чудесно, что не хотелось открывать глаза, не хотелось…
Я впервые побывал в ее стране, мне не хотелось оттуда возвращаться.
Но все окончилось, Соня тихо спала на моем плече, а Веня стоял над нами, протягивая блокнот:
«Возьмите меня с собой!»
– Я не умею, Веня, – у меня наворачивались слезы, хотелось обнять всех, весь мир, очень хотелось, чтобы всем стало также хорошо, как было мне. Впервые в жизни я ощутил желание поделиться своим счастьем. – Попросим ее, когда проснется.
«Хорошо» – написал он и ушел к своей кровати.
Когда я утром проснулся, Сони рядом не было.
Ее появления у нас в комнате по ночам в выходные дни, когда идиотов забирали домой, стало традицией.
Но Веню нам не удавалось взять с собой.
– Я могу только тебя, – объясняла Соня. – Только ты это понимаешь. Моя страна не может открыться каждому.
Она была очень рассудительна, не по возрасту.
Летом у нас появился новый завхоз.
Полный, в очках, с потными руками, которые он постоянно обтирал об халат.
Тогда наши ночные полеты сменялись его приходами.
Он приходил уже под утро. Соня спала, и я накрывал ее одеялом с головой, чтобы Семен Палыч не заметил лишнего человека.
Он крался на цыпочках, но я просыпался, этот звук рождал во мне чувство опасности.
Завхоз заходил, некоторое время прислушивался, потом подкрадывался к постели Вени, вставал на колени, засовывал одну руку под халат, а второй начинал гладить тело мальчика, чуть слышно шепча:
– Какое прекрасное создание! Ты так прекрасен! Как же я тебя люблю! Это невыносимо!
Если бы не мой слух, то я бы никогда этих слов не услышал, они звучали, как дуновение ветерка. Гораздо четче было слышно, как ритмично одна из его рук движется под халатом. Через какое-то время его голос срывался на хрип и почти стон, он ронял голову на край кровати, тяжело дышал, потом с трудом вставал и удалялся.
Я так завидовал Вене – есть же человек, который так его любит!
Хотя Вениамин и писал мне:
«Я его боюсь. Не знаю почему, но мне страшно. Я лежу, боюсь пошевелиться».
Лешка недолго существовал в моем сознании, как друг.
Однажды пропал Венин блокнот, в котором были записаны его слова, которые не звучали, в том числе и внесенные туда в ночи выходных. Пока мы искали пропажу, Лешка, злорадно ухмыляясь, наблюдал за нами, а потом несколько раз бегал в комнату идиотов в конце коридора, возвращался довольный.
В ближайшие выходные, когда Соня ночью пришла к нам, я услышал поспешные шаги, следовавшие за ней, и вот в нашей комнате вспыхнул свет, на пороге стояла завуч младших классов Нина Васильевна – «Нива».
Наказание последовало в понедельник во время обеда дошкольников и учеников первых трех классов.
Меня и Соню раздели догола и выставили на общее обозрение. Раньше таким наказаниям подвергались только дошколята.
Идиоты смеялись, тыкали в нас пальцами, даже кое-кто из психов криво усмехался.
Мне казалось, что их взгляды забираются внутрь меня, шарят там, оставляя липкие, сильно вонявшие следы, смех и хихиканье, усиленные моим тонким слухом, колоколом звучали в голове, я начал дрожать, казалось, голова сейчас расколется от стоявшего в ней грохота.
Веня встал из-за стола, подошел к нам, снял форменный пиджак и накинул его на плечи Сони, запахнул, застегнул на пуговицы. Она, казалось, утонула в его одежде.
Мне он протянул тарелку, я прикрылся.
– Вениамин, хочешь присоединиться к ним? – грозно пронесся по залу столовой голос Нивы.
Она решительно двинулась в нашу сторону, сорвала с Сони пиджак и бросила его в Венькино лицо. Потом она схватилась за тарелку, потянула ее на себя. Я не отпускал. Она дернула еще раз, уже сильнее, я разжал пальцы, ее рука, не ожидая свободы, дернулась назад, тарелка ударилась об угол стола, осколки разлетелись по полу.
Я весь сжался, даже присел, но не избежал сильного подзатыльника, упал на четвереньки и заплакал. Сквозь слезы посмотрел на Соню – она стояла с блаженной улыбкой и закрытыми глазами – она была там, очень далеко, в своей сказочной стране.
Так меня предал друг.
Соня больше не приходила, зато все чаще стала на уроках прикрывать глаза, сгибать и разгибать пальцы рук.
Комнаты, где жили ученики младших классов, начали запирать на ночь, ключ от нашей был у завхоза.
В конце первой четверти второго класса Баба Лена забрала все же меня из интерната. Я переехал в ее двухкомнатную квартиру на седьмом этаже двенадцатиэтажного дома на углу Орбели и Пархоменко, из окон которой был виден парк Лесотехнической Академии.
Я пошел в обычную школу.
Я долго присматривался, но по квалификации интернатовской тети Клавы здесь не было идиотов и психов, все были обычными, но разными, я никак не мог поделить их на виды, поэтому опасался всех одинаково. На всякий случай сел за последнюю парту, чтобы у меня за спиной никого не было, на перемене забивался в угол коридора, слушая оттуда остальных.
Какое-то время на меня не обращали внимания, потом стали издеваться и задирать, я отступал, молчал, сжимался, и. в конце концов, на меня махнули рукой.
Дома я тоже был тише воды, ниже травы, не знал, зачем я здесь, что мне ждать от Бабы Лены.
Я снова учился спать в отдельной комнате, мне очень не хватало Вени и Сони, я тосковал без них, засыпая, мысленно разговаривал с ними, а потом видел их во сне.
– Ты бы там, Вадик, пропал, – говорила Баба Лена, – никому ты, кроме меня и не нужен.
Я не мог понять, зачем я нужен ей, кто она?
Только когда я учился в десятом, узнал от нее, что она мама первой жены моего папы. Ее дочка, которую звали Людмилой, умерла очень молодой, и папа женился на моей маме, но продолжал навещать бывшую тещу, по крайней мере, дважды в год – на день рождения и в день смерти первой жены, с которой прожил всего три года, не заведя детей.
Узнав о смерти моих родителей, Баба Лена выяснила, что дядя Коля, усыновивший меня, продал нашу квартиру и куда-то пропал. Потом она разыскала меня, долго оформляла бумаги, пока не удалось забрать меня домой.
Но это я все узнал очень нескоро.
А будучи в неведении, я продолжал опасаться нового взрослого человека, появившегося в моей жизни, ожидая от нее очередного предательства или иной пакости.
Она по ночам храпела, и, только слыша этот храп, я спал спокойно, но стоило водвориться тишине, я просыпался и ждал, ждал чего-то страшного, пока она опять не начинала храпеть, тогда успокаивался и засыпал, ни на мгновение не отключая те части мозга, которые анализируют слышимое.
Дома у Бабы Лены было настоящее пианино, за которое она частенько садилась и играла, а я замирал рядом, впитывая живое звучание музыки.
– Хочешь научиться? – спросила она.
– Да, – выдохнул я.
Но стоило мне коснуться клавиш, как все во мне напрягалось – это было очень громко, и эти звуки издавал инструмент из-за меня, этого я себе не мог позволить и отказался от занятий.
Еще в квартире был проигрыватель и много пластинок с классической музыкой. Там я впервые услышал Баха не в мысленном исполнении Вени, а в прекрасном исполнении органа и симфонического оркестра.
Видя мою тягу к звучанию нот, Баба Лена начала водить меня в Филармонию. Где я увидел, как выглядят те инструменты, которые создают гармонию, звуки волнующие, трогающие, изумляющие, завораживающие, но не пугающие.
Я научился выделять в звучании оркестра отдельные инструменты, заглушая мысленно звук других. Я мог, сидя в зале, слушать скрипку или рояль, полностью выключив звук остального оркестра, даже научился оставлять звук только одной скрипки, постепенно понижая мысленно громкость других.
Когда я бывал в плену музыки, отключалась моя способность слышать что-либо еще, давала сбой моя система постоянного мониторинга окружающей обстановки. Я забывал обо всем, я ничего не опасался, ни о чем не думал – парил в невесомости, чем-то напоминавшей Сонину страну.
Первые два года Баба Лена обязана была раз в месяц приводить меня в интернат на беседу с врачом – противным дядькой в проволочных очках, с резиновым молоточком в руках и списком непонятных, запутанных вопросов. Конечно, при этих посещениях я находил несколько минут повидаться с Веней и Соней. Они, как и я, были очень рады этим встречам.
Начиная уже с четвертого класса, я посещал интернат только один раз в три месяца, но зато в пятом Баба Лена устроила мне настоящий праздник – она договорилась с директором и Веня с Соней пришли к нам домой на мой день рождения, на целый день, Веня тогда исписал два блокнота.
С шестого класса визиты к врачу стали обязательными раз в полгода.
Вот тогда, при весеннем посещении, Веня меня напугал.
Я зашел к нему, присел на соседнюю кровать, он, казалось, через силу улыбнулся, вяло пожал мне руку, было впечатление, что он не рад.
В комнате стоял тяжелый запах. Я оглядывался и принюхивался, Веня это заметил, протянул мне блокнот:
«Я не моюсь».
– Почему?
«Я надеюсь стать для них противным. Но они сами насильно меня моют».
– Кто?
Он отвернулся к стене и больше не реагировал на мои вопросы.
Я прислушался, от него не исходила музыка.
– Ты не слушаешь музыку? – спросил я.
Он, не поворачиваясь, протянул руку, взял с тумбочки блокнот, что-то написал и, также глядя в стену, протянул мне ответ:
«Она больше не звучит».
В следующее мое посещение, я не застал Веню, пошел искать его по классам, встретил Соню.
– Он в больнице, – объяснила она.
– Что случилось?
– Он обжегся кислотой в классе химии.
– Ты знаешь, в какой больнице?
– Да, – она назвала адрес. – Меня к нему не отпускают, – она прикрыла глаза и оказалось уже не со мной.
Я взял ее за руку, зажмурился, но полет не получался, неужели мы потеряли связь?
Я уговорил Бабу Лену отвезти меня в больницу.
Веня лежал на койке с забинтованной головой.
– Что случилось? – я подсунул ему под правую руку блокнот, который лежал на тумбочке.
«Я сам облил себе лицо. Я думаю, что теперь я им буду не нужен. Я буду противен».
– Кто они?
«Не надо».
Больше он ничего не писал и закрыл глаза, только по бинту на лице пробежала слеза, оставляя мокрый след.
Я еще раз навещал его, больше ничего не спрашивал, но он сам написал про Соню:
«Она стала очень долго гостить в сказочной стране. Ее теперь лечат. Ее забирают в больницу, и она пьет лекарства. Она скоро станет обычной».
– Не верю, она не может не быть психом!
«Я уже иногда ее не узнаю. Она становится другой».
– Не может быть!
«Я тоже так думал».
– Я ее видел несколько дней назад. Она была обычной, закрывала глаза, улетала.
«Значит, ее скоро опять заберут. После каждого лечения она все дольше не может улететь».
А через месяц к нам домой пришел милиционер.
Он долго разговаривал на кухне с Бабой Леной, они закрыли двери, усадили меня в дальней комнате и шептали тихо-тихо. Я слышал только обрывки: «Его нельзя, у него психика тонкая», «Но он недавно виделся с товарищем, он может что-то знать» и еще много подобных туманных фраз.
Потом они пришли ко мне.
– Ты виделся недавно с Вениамином?
– Да. Это было тридцать два дня назад, – ответил я.
– Ты так точно помнишь?
– Я все точно помню. Зачем помнить не точно?
– Что тебе говорил твой друг?
– Говорил, что облился кислотой. Что его лечат.
Диалог был долгим. Я не мог понять, что хочет милиционер, а он не хотел задавать прямые вопросы, не хотел объяснить, в чем дело? Это вызывало у меня опасение, я боялся навредить ответами Веньке, говорил общие фразы, слушая интонацию спрашивающего, частоту его пульса, надо было определить, что его больше всего волнует, когда он задает действительно важный для него вопрос, а когда, чтобы запутать меня.
Когда милиционер ушел, Баба Лена объяснила:
– Я лучше тебе все скажу, чтобы ты не мучился всякими домыслами. С Веней случилась беда, он зарезал завхоза в интернате. Сейчас ему назначили психическую экспертизу. Его положат в сумасшедший дом.
Так Веня навсегда исчез из моей жизни. Он меня не предавал, это я не смог его защитить, такая мысль мне пришла впервые. Можно же было, наверное, уговорить Бабу Лену забрать его к нам. Это открытие затмило в моем разуме мысли о предательстве в отношении меня «взрослых», которые случились в моей жизни.
Категорию «взрослые» я сам добавил в классификацию тети Клавы, которая подразумевала только: «идиот», «псих» и «обычный».
«Взрослые» для меня – это не все, кто старше меня, а только те, от кого зависел я и ход моей жизни. Пока никто из них не смог не оставить во мне разочарования. Казалось, что Баба Лена тоже не станет исключением – она очень часто говорила, что, если бы ни она, то моя жизнь была бы труднее и беспросветнее, что мне повезло, что она случилась на моем пути. У меня вызывал страх все, от кого я зависел.
Прошел год, я не бывал в интернате, мои посещения врача отменили, теперь я должен был ходить раз в год в районный диспансер.
Однажды, когда был дома один, я услышал, как на первом этаже открывается дверь парадной и по нескольким ступеням к лифту устремляются шаги Сони. Я вышел на площадку и ждал ее.
– Привет, Вадик, – она прошла мимо меня в квартиру, скинула туфли и забралась с ногами в кресло, – как хорошо, что я помню, где ты живешь.
– Привет. Как ты здесь?
– Я сбежала.
– Из интерната?
– Из больницы. Я месяц уже выплевывала таблетки. Теперь могу соображать, – она говорила медленно, как будто находясь в глубокой задумчивости, глаза были блеклыми, потеряли яркую голубизну, волосы распрямились, не блестели.
– Что ты будешь теперь делать?
– Я улетаю. Я, наконец, решилась, я улетаю, – я прислушался, ее сердце стучало ровно, не было былого бешенного ритма, как раньше перед полетами. – Они убедили меня, что моей страны нет. Я им поверила, я отреклась от нее. Но я знаю, что она меня простит, так надо было, чтобы они ослабили контроль. Моя страна меня не предаст.
Она смотрела в пол, не поднимая глаз на меня.
– Я сейчас чай налью, как ты любишь, с тремя ложками, – я вышел на кухню и уже оттуда услышал резкий звук открываемого окна, кинулся назад.
Она стояла на подоконнике:
– Я вернусь за тобой, Вадик, ты жди. Только ты достоин моей страны. Жди! – она расправила руки, плавно взмахнула ими и шагнула с подоконника в небо.
У меня отключился слух, в голове свистел ветер, будто я летел с бешенной скоростью, а потом глухой удар и полная тишина.
Я впервые был в абсолютной тишине, в которой очень гулко разносился звук капающих с неровного бордюра на асфальт двора каплей Сониной крови из разбитой головы. Я сжал голову руками, я затыкал уши, но капли звучали все громче, как куранты, отсчитывающие последние секунды навсегда уходящего года, детства, жизни…
Я бросился к шкафу, схватил зимнюю шапку, надел, завязал «уши», свалился на диван, прижал к уху подушку, но все было напрасно – капли продолжали падать на асфальт. Тогда я вскочил, сорвал шапку, в мои уши ворвался шум: кто-то внизу кричал, гудела машина, натужно скрипел лифт, кто-то выбивал ковер, лаял пес, скрипели на повороте колеса автомобиля, жизнь продолжала звучать, но никогда в ней не прозвучит голос Сони, никогда больше я не смогу летать.
Несколько дней я не спал, я ждал, что она за мной прилетит, я был вне реальности, ничего не слышал, никого не видел, не контролировал ни себя, ни окружающих.
А потом провалился в сон без сновидений и проспал два дня.
Когда проснулся, то отчетливо понял – я остался один, я перестал ждать Соню.
Баба Лена умерла, когда я заканчивал школу, мне скоро должно было исполниться восемнадцать. К этому времени я уже отлично знал все звуки нашего дома, кто и в какой квартире в какое время встает утром, когда ложиться, у кого какая походка, где есть дети, а где животные, кто любит долго принимать душ, в какой квартире, как часто пользуются пылесосом, кто какие программы смотрит по телевизору, у кого какая мелодия дверного звонка, я все про всех знал, но, как только я остался один, они никогда не узнают ничего про меня.
Я, долго мучаясь, вытащил из пианино струны и теперь с наслаждением изучал ноты, учил наизусть любимые мелодии и играл на беззвучных клавишах, паря в их звучании.
Я нашел работу.
Ее мне посоветовал сосед с первого этажа, он был на год старше меня, я его сразу отнес к разряду идиотов.
– Вадик, там все круто. Выдают черную форму, дубинку, как у ментов. Стоишь, а эти все богатеи ходят и тебе пропуск предъявляют.
Я устроился охранником в огромный бизнес-центр недалеко от метро «Проспект Большевиков». Работа была сменная, но самое главное, что все мое рабочее время я проводил в специальной будке, которая отгораживала меня от всех, она создавала иллюзию безопасности, она успокаивала меня, мне не надо было ни с кем соприкасаться, общаться, я был один в своем убежище, внимательно слушая всех вокруг, сам оставаясь неслышным.
Мне повезло с работой, никогда ее не поменяю, скоро уже должен был быть двадцатилетний юбилей, как я здесь работал.
3.Занедолго до сегодня
Ясный морозный день сменился пасмурным, туманным, влажным вечером, потепление принесло изморось.
Я шел к своему дому от Второго Муринского вдоль длинного серого «сталинского» дома по узкой пешеходной дорожке. Впереди неспешно, аккуратно ставя ноги на местами покрытый льдом асфальт, двигалась пожилая женщина с хозяйственной сумкой в руке.
Прислушавшись к ее шагам, понял, что походка мне знакома.
Из отведенной под эту информацию ячейки памяти считал – живет на девятом этаже, квартира в моем стояке, судя по всему, живет одна, но гости бывают часто (некоторые повторяются, некоторые бывают очень редко), хозяйка не заставляет их переобуваться, ходят по квартире в уличной обуви, иногда она играет на рояле или пианино, телевизор смотрит в большой комнате, в маленькую уходит на ночь.
Обгоняя ее, я почти прижался к стене дома, и именно в этот момент мой слух уловил исходящий сверху легкий треск и еле уловимое шуршание льда о металл. Мозг, настроенный на постоянный анализ окружающей обстановки, мгновенно послал импульс ногам, которые напряглись и откинули мое тело влево от стены, по пути рука ухватилась за ворот пальто женщины, увлекая ее за мной в сугроб за дорожкой.
Мы упали на твердый наст одновременно с огромной льдиной, разбившейся об асфальт на том месте, где долю секунды назад мы шли. Сноп мелких осколков и брызг осыпал нашу одежду.
Я вскочил, женщина со стоном села, ее шапка и сумка лежали в стороне.
– Агрессивная у вас, молодой человек, манера спасать женщин, – она повернулась в мою сторону и улыбнулась. – Подайте, пожалуйста, руку. Помогите встать.
Я напрягся, но руку все же протянул, она у меня дрожала, сердце было готово выпрыгнуть из груди, от пережитого только что страха.
Она оперлась о мою ладонь и с трудом встала, начала отряхивать пальто.
Поколебавшись, я наклонился, поднял и подал ей шапку, положил в сумку вылетевший из нее пакет с батоном и половинкой ржаного, распрямился, протягивая женщине сумку.
– Если вы были столь любезны, спасти мне жизнь, может, поможете добраться до дома? Для моего возраста такие стрессы слишком сильное ощущение. Если признаться, коленки дрожат, – вместо того, чтобы забрать у меня сумку, она крепко взяла меня под руку.
Я не поддался панике, которая готова была начаться от такого близкого контакта с посторонним человеком, я убедил себя, что от женщины опасности пока не исходит. Мы медленно побрели в сторону дома.
Когда я уверенно свернул к подъезду, она удивленно спросила:
– Вы знаете, где я живу?
Я был поглощен анализом создавшийся ситуации, отвечал автоматически:
– Вы живете на девятом, надо мной, через один этаж.
– Откуда вы знаете, вы же обычно ходите, опустив голову, ни на кого не смотрите, не здороваетесь. Вы меня узнали?
– Я узнал вашу походку. Я ее слышу дома. У вас домашняя обувь на жесткой подошве и, по-моему, на каблуке.
– Вы слышите через этаж?
– Да, даже дальше.
– Удивительно. Удивительная способность. Я слышу только дрели у соседей. Действительно, хожу всегда на невысоком каблуке, так привыкла, иначе начинают ноги болеть. Вас зовут Вадим? – спросила она, когда мы уже подходили к лифту.
Я вздрогнул, как она это узнала?
– Не пугайтесь. Я знаю многих в этом доме, очень давно живу здесь, хорошо знала и Елену Павловну, она же ваша бабушка?
– Да, – я был напряжен, но пока еще сигнала об опасности не поступало, надо было пройти еще одно испытание – проехать в тесной кабине в непосредственной близости с посторонним человеком.
Обычно, если я к лифту подходил одновременно с кем-либо, то уходил по лестнице, вниз всегда ходил пешком, потому что кабина могла остановиться на любом этаже, где нажата кнопка.
Мы доехали до девятого, я дождался, пока она открыла свою дверь, отдал ей сумку и устремился по лестнице вниз.
– Всего хорошего, Вадим. И еще раз спасибо за подаренную жизнь! – голос ее звучал весело, будто она улыбалась или даже смеялась.
– До свидания, – прошептал я в ответ.
На следующий день была ночная смена, поэтому днем я был дома.
Сходил в магазин, разложил продукты в холодильнике, сел перед беззвучным телевизором, смотрел фигурное катание, наслаждаясь подбиранием мелодии под кружение по льду очередной пары.
День был будней, в доме было относительно тихо, все на работе или на учебе, поэтому я легко слышал, как моя вчерашняя попутчица топталась на своей кухне, потом, не переобуваясь, вышла на лестницу, но лифт не вызвала, медленно начала спускаться по лестнице, пока не остановилась у моей двери.
Она нажимала на кнопку отключенного дверного звонка, я слышал, как отсоединенный контакт царапает по корпусу звонка. Она нажимала несколько раз, а потом постучала.
– Вадим, откройте, я знаю, что вы дома. Я видела вас в окно.
С тех пор, как умерла Баба Лена, никто посторонний не бывал в моей квартире. Иногда пытались звонить и стучать в дверь какие-то люди, которые ходили и по соседним квартирам, наверное, представители каких-то служб, но я не открывал. Но ни разу не было, что бы кто-то начинал поднимать шум у моей квартиры.
Это меня напрягало, нервировало, это привлекало внимание к моему жилищу.
Опять раздался стук и уже совсем громкий голос:
– Вадим, у вас все нормально?
Пришлось открыть дверь.
Попутчица стояла передо мной, держа в руке тарелку с румяными пирожками, от которых поднимался пар.
– Здравствуйте, Вадим, я помешала?
– Нет, – выдавил я из себя.
– Я к вам в гости с благодарственным угощением. Позволите, – она шагнула через порог, я непроизвольно отступил назад, выглядело, будто я ее приглашаю, пропускаю внутрь моего укрытия. – Угостите чаем?
Она прошла в комнату, поставила тарелку на стол.
В этот раз я ее разглядел: женщина далеко за шестьдесят, коротко остриженные, редкие, седые волосы, морщины не глубокие, но частые, на носу роговые очки, фигура плотная, синие платье с пояском было явно мало, видимо, из старых запасов, босоножки на невысоком каблуке без задников.
– Это собственного приготовления, – она кивнула на пирожки, – у вас есть чай?
– Да, – я ушел на кухню, включил газ под чайником и вернулся.
Гостья сидела на стуле за столом, с любопытством осматривая комнату:
– Вы тоже играете? – она кивнула на пианино.
– Да, – я присел на краешек стула напротив нее.
– Меня зовут Надежда Петровна. Мы с тобой давно знакомы. Ты же учился в пятьсот тридцать четвертой?
– Да.
– Ты выпуска девяностого?
– Да.
– Я много лет работала в этой школе. Я преподавала математику в старших. В вашем классе я не работала, несколько раз только замещала Валю, когда ты был в восьмом. Я тебя хорошо помню, ты меня тогда просто поразил.
Я молчал, я не помнил ее, или она изменилась за двадцать лет. Нашу математичку несколько раз замещали, один раз даже приглашали учителя из соседней школы.
– Ты меня просто «убил» однажды своим выступлением у доски. Ты отвечал, потом что-то случилось, ты отвлекся, сбился и начал рассказывать нам про интегралы, системы дифференциальных уравнений, выдавая такие вещи, которые и в институте не каждый сможет. Откуда ты это знал? Ты увлекался математикой?
Действительно, у меня было такое свойство. Если при ответе на уроке я слышал какой-то посторонний звук, вызывающий ощущение опасности, то я отвлекался на его анализ, просчет возможных последствий, но при этом продолжал говорить, потому что так полагалось, но уже не мог полностью контролировать, что говорю.
– Нет, не увлекался.
– Откуда же ты это знал?
– Я много читал книг по математике, когда был маленький. Они от папы остались. Я их читал и запоминал, но я не понимал значения того, что читал. Это было очень давно, но я все это помню.
Она внимательно смотрела на меня, мерно постукивая пальцами по столу, и в этот момент я ее узнал.
– Я вас узнал. Вы так стучали по журналу, когда слушали чей-нибудь ответ, – я указал на ее руку, лежавшую на столе. – Если ученик начинал отвечать неправильно, вы сжимали кулак, выставляли указательный палец, сгибали его и начинали стучать только им.
Она сдвинула очки на кончик носа, с удивлением глядя на меня:
– Ты это помнишь?
– Да, еще вы, когда что-нибудь объясняли, то выделяли важные слова, ударяя указкой себя вдоль ноги. А в конце предложения стукали носком правой туфли об пол. Это было очень тихо, но я помню. Я слышал. Еще у вас был кожаный пиджак, который скрипел, когда вы писали мелом на доске.
– Вот это да! – она покачала головой. – Ты все помнишь через звуки!
– Многое, но многое и через глаза. Но через звуки проще, их можно больше запомнить, чем картинок, они меньше занимают места в памяти, – я устал, я давно так много не говорил.
Услышал, как в чайнике начали подниматься со дна пузырьки, скоро закипит вода, ушел на кухню за пакетиками с чаем и чашками.
Когда вернулся, Надежда Петровна пыталась включить звук телевизора, но это было невозможно, он был отключен навсегда.
– Сломался? – спросила она.
– Да.
Мы пили чай с пирожками, было очень вкусно, как я больше всего любил – с капустой, как когда-то у моей мамы.
– Ты, наверное, в сухомятку питаешься, давай буду тебе борщ варить.
Я напрягся, отодвинул тарелку с недоеденным пирожком:
– Спасибо, я наелся.
Я сжался, что это? Попытка стать очередным «взрослым» в моей жизни? Я никогда теперь уже не позволю кому-либо сделать меня зависимым от него. От гостьи повеяло опасностью, я отодвинулся, мне захотелось выйти, но выйти было некуда – это было мое жилище.
Она, кажется, сразу почувствовала мое состояние, растерянно молчала, пауза затягивалась, она была смущена, как человек, который хочет добиться одного, а натыкался совершенно на другое, неожиданное для него, не понятное.
Она занервничала, убрала руки со стола, разгладила подол платья на коленях, мне даже стало жалко ее.
– Ты часто играешь? – она явно искала другую тему, понимая, что чем-то смутила, напугала собеседника, мы – психи – очень чутко чувствуем состояние собеседников.
– Каждый день, – я решил поддержать разговор, чтобы совсем не загонять ее в угол.
Она встала, подошла к пианино, открыла крышку:
– Сыграй что-нибудь, пожалуйста, а то я слушаю только свое исполнение, а это совсем другое дело, – она нажала на клавишу, которая ответила ей полной тишиной, не поверив, нажала еще на несколько, тот же эффект, хотя я услышал «ми».
Она решительно подняла верхнюю крышку, заглянув внутрь пианино, прошептала:
– Нда! – потом уже громко: – Сыграешь?
«Может она все же псих?» – пронеслась в мозгу шальная мысль, но этого не могло быть, своих я чувствовал сразу, она была «обычной», которая зачем-то хочет стать для меня «взрослой».
Я встал, подошел к инструменту, уселся на крутящийся стул, задумался и начал играть.
Надежда Петровна стояла тихо рядом, внимательно смотря на мои руки.
Я взял последний аккорд.
– Тоже люблю «Сарабанду» Генделя, – сказала она. – Но тебе надо научиться пользоваться правой педалью. Она позволяет длиться звуку, когда ты уже отпустил клавишу. Иначе появляются непроизвольные паузы, мелодия прерывается.
Я ошарашено смотрел на гостью.
– Ты мысленно тянешь звучание ноты, но в реальности она прерывается без педали.
– Вы слышали? – я был подавлен. – Вы псих?
Она расхохоталась:
– Конечно псих! Какой нормальный человек выдержит почти сорок лет в школе? – потом серьезно продолжила: – Нет, я не слышала, я видела, я же тоже играю, поэтому вижу, что ты исполнял.
– Я знаю, что вы играете.
– Ах, да, извини, забыла, что от тебя ничего не скрыть.
– Вы иногда играете очень красивую вещь, я не знаю названия, она такая медленно-тягучая.
– Понимаю. Уступи-ка место.
Я встал, она села, вздохнула и начала играть. Да, это была та прекрасная мелодия, которой я заслушивался через плиты перекрытия, теперь же она звучала в моей квартире, рядом, исполнительница раскачивалась в такт, откинув голову и закрыв глаза.
– Здорово! – искренне воскликнул я, когда отзвучало эхо последней ноты.
Она встала и театрально поклонилась, схватившись после этого за поясницу, сморщилась, распрямилась и сказала:
– Хочешь, приходи, научу.
Я опять напрягся:
– Я сам выучу, если ноты дадите.
– Дам, – тяжело вздохнула она, будто изучая, глядя мне в глаза, – если придешь.
– Мне на работу в ночь. Может, бросите мне в почтовый ящик, – я терялся, мне было не по себе.
– Знаешь, Вадим, у меня к тебе будет одна просьба. Мне, после вчерашнего падения, тяжело ходить. Ты бы не мог мне завтра купить хлеба? Магазин далеко, скользко на улице. Лет-то мне уже порядочно, – она говорила без пауз, будто боялась дать мне слово. – Я опасаюсь после вчерашнего выходить. Я денег тебе дам. Ко мне часто приходят ученики, помогают, но я же не знаю, когда опять придут…
– Хорошо, куплю. Деньги есть. Вам какой?
– Батон и ржаной.
«Неужели она уже съела то, что вчера несла?» – мысленно удивился я, поняв, что ученики это, скорее всего, те, кто ходит по ее квартире в уличной обуви.
Видно было, что она искренне обрадовалась моему согласию, заторопилась, пока я не передумал, поспешно распрощалась и ушла, оставив на столе тарелку с выпечкой.
Я выключил телевизор, сел за стол и не спеша доел все пирожки.