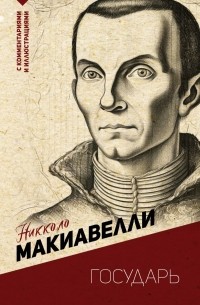Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
О Никколо Макиавелли, секретаре Флорентийской республики, гуманисте, историке, авторе комедий, а также поэте трагическом
Езуит Посвин, столь известный в нашей истории, был один из самых ревностных гонителей памяти Макиавеллевой. Он соединил в одной книге все клеветы, все нападения, которые навлек на свои сочинения бессмертный флорентинец, и тем остановил новое издание оных. Ученый Conringius, издавший «II principe» в 1660 году, доказал, что Посвин никогда не читал Макиавелли, а толковал о нем понаслышке.
Италия! Имя ее издавна было священно одним лишь поэтам. Для того чтобы Италия стала политической идеей, надобен был политик, который сделался бы поэтом.
Имя для этого времени нашел вовсе не Мишле, а Пушкин. Он едва ли не первый назвал его: «Великая эпоха Возрождения».
На рубеже XV и XVI столетий Возрождение достигло зенита. Никогда в Западной Европе не рождалось столько гениальных художников и великих поэтов. Даже в Италии. Это было время Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи, Рафаэля, Браманте и Микеланджело. В юности Никколо Макиавелли, несомненно, встречал на улицах родного города Анджело Полициано, Луиджи Пульчи, Михаила Марулла и, конечно, Лоренцо ди Медичи, который был не только самым авторитетным политиком Флоренции, но и одним из ее наиболее одаренных лириков. Саннадзаро, Фоленго и Ариосто приходились Макиавелли сверстниками. Сам он тоже писал стихи. Когда Ариосто не упомянул его в «Неистовом Орланде», перечисляя славных поэтов тогдашней Италии, Макиавелли смертельно обиделся.
Надо полагать, создатель «Орланда» не склонен был считать стихи, сочиняемые секретарем Флорентийской республики, подлинной и высокой поэзией. Они были умны, но как-то уж слишком простонародны. Им недоставало изящества, благозвучия и того лоска формы, которым к началу XVI века обладали даже самые посредственные петраркисты. Кроме того, в стихотворениях Макиавелли чересчур часто говорилось о политике, и от многих из них попахивало желчью. Они явно выламывались из ставших к тому времени классическими канонов ренессансной лирики. Макиавелли плохо верил не только в Бога, но и в того абсолютно свободного, божественного человека, о котором неустанно говорили Леон Баттиста Альберти, Марсилио Фичино, граф Пико делла Мирандола и все флорентийские неоплатоники. Вернее, он верил в него совсем по-другому. Индивидуалистическая и антропоцентрическая концепция мира, типичная для гуманистической идеологии Возрождения, у Макиавелли сохранилась, но она претерпела в его произведениях серьезные уточнения. В миропонимании Возрождения Макиавелли – рубеж. У подавляющего большинства гуманистов XV века огромный, всеопределяющий интерес к человеку был интересом к отдельной человеческой личности, изолируемой не только от истории, но и от окружающей его общественной, политической среды. Человек был божественным, гармоничным, всесильным, бесконечно прекрасным и – идеальным. Гуманистический идеал Альберти, Полициано, Боттичелли чрезмерно резко противопоставлялся реальной действительности. Он был утопичен и идилличен.
В произведениях Никколо Макиавелли нравственно-эстетический идеал эпохи Возрождения обрел политическую реальность. Но это вовсе не значит, что Макиавелли перестал быть гуманистом. Обособить его миропонимание от передовой идеологии того времени можно, лишь отъяв гуманизм у Ренессанса. Макиавелли был первым великим писателем Возрождения, который стал изучать человека и человеческие отношения не только с этической и эстетической точек зрения, но также в аспектах социологии. Рядом с проблемой личности в его произведениях встали проблемы народа, сословия, класса, нации, и это привело к существенному сдвигу акцентов. Макиавелли и Ариосто были знакомы, но они плохо понимали друг друга. Макиавелли не понимал, например, как можно беспрекословно восторгаться античным искусством и видеть в изящной словесности высшее проявление свободной человеческой жизнедеятельности. Он с издевкой писал об Италии, которая «воскрешает мертвые вещи: поэзию, живопись, скульптуру» («О военном искусстве», VII). Ему казалось, что воскрешать надо саму Италию. Он, кажется, даже считал, будто пышный расцвет итальянской культуры на рубеже XV и XVI веков был одним из проявлений слабости и нравственной испорченности современного ему общества.
Так же как большинство гуманистов, Макиавелли был моралистом. Но, продолжая и развивая этико-политическую традицию флорентийского гуманизма, являясь ее наиболее ярким носителем, он поднял эту традицию на качественно новую ступень.
Отказывая Макиавелли в праве на титул большого поэта, Ариосто был явно не прав. В XVI веке большая поэзия по-прежнему существовала не только в стихотворной форме. Макиавелли был одним из титанов Возрождения, и именно поэтому он оказался великим художником. Люди того времени, как известно, не стали еще рабами разделения труда. Наиболее проницательные мыслители прошлого не случайно ставили Макиавелли в один ряд не только с Мартином Лютером, но также с Леонардо да Винчи и Альбрехтом Дюрером. Созданная Макиавелли «Мандрагора» оказалась лучшей комедией итальянского Ренессанса. Его «Сказка» о Бельфагоре не уступает самым красочным рассказам Маттео Банделло. А романизированная «Жизнь Каструччо Кастракани из Лукки» имеет ничуть не меньшие права на место в художественной литературе, нежели диалоги Кастильоне или сравнительные жизнеописания Плутарха. Но самым великим поэтическим произведением Макиавелли стал «Государь». Музой Макиавелли была политика.
Нередко говорят, что он отделил политику от нравственности, сделав ее – прежде всего именно в «Государе» – «чистой наукой». На этом особенно настаивал сперва Карл Маркс, а затем Бенедетто Кроче. Это один из исторических мифов. Гуманизм Возрождения, как правило, не был ни аморальным, ни имморалистическим. Макиавелли обособил общественно-политическую проблематику всего своего творчества не от нравственности, а от нравственных догм не вышедшей за Средневековье христианской религии и от той ханжеской, обывательской морали, которая в его время лицемерно апеллировала к этим догмам. В этом он следовал великой традиции итальянского Возрождения, основы которой были заложены Петраркой и Боккаччо. Реализм политических концепций органически сочетался у Макиавелли с мифотворчеством художественного сознания. «Основная черта „Государя“, – писал один из самых оригинальных мыслителей нашего столетия, – состоит в том, что он является не систематизированным трактатом, а „живой“ книгой, в которой политическая идеология и политическая наука сплетаются воедино в драматической форме „мифа“». В отличие от утопии и схоластического трактата, то есть тех форм, в которые политическая наука облекалась вплоть до Макиавелли, такой характер изложения придает его концепции форму художественного вымысла, благодаря чему теоретические и рационалистические положения воплощаются в образ кондотьера, являющийся пластическим и «антропоморфным» символом «коллективной воли».
Именно «Государь» принес Макиавелли всемирно-историческую славу. Она не всегда была справедливой. Книгу эту поняли далеко не все и отнюдь не сразу. Но вовсе не потому, что она написана трудно. Напротив: читателей Макиавелли всегда ослепляла чрезмерная ясность его концепции. Их пугала – и порой до сих пор продолжает пугать – бескомпромиссная смелость выводов. «Государю», так же как и другим произведениям Макиавелли, недоставало не столько божественной гармонии «Неистового Орланда», сколько его идилличности. Создатель «Государя» подписал одно из своих последних писем: «Никколо Макиавелли, историк, автор комедий и поэт трагический». Несмотря на то что ни одной трагедии в собственном значении этого термина Макиавелли не написал, он определил себя здесь чрезвычайно точно. Ариосто и Макиавелли были самыми крупными писателями итальянского Возрождения в ту пору, когда Ренессанс достиг наивысшей зрелости, но они выражали его различные и в чем-то даже противоположные исторические тенденции. В произведениях Макиавелли показана не красота, а дисгармоничность мира. В них полнее, глубже и непосредственнее, чем у кого-либо из современных ему художников, отразилась историческая трагедия его родины.
Современная Макиавелли Италия переживала глубокий политический, социальный и экономический кризис. Надвигалась рефеодализация. Все крупнейшие государства Италии лихорадило. В 1494 году флорентийцы прогнали Медичи и возродили у себя республиканский строй. Однако и после этого Флоренция не успокоилась. Она еще раз сменила политический режим в 1498 году, затем в 1502-м и в 1512-м. Между 1499 и 1512 годами во главе Милана четыре раза появлялась новая власть. В 1509 году Венеция оказалась на краю гибели. В Риме царили бесконечные смуты. В Романье и Марках не прекращалось брожение, Неаполь не раз менял правителей. Ни один государственный строй в Италии – ни в тираниях, ни в королевствах, ни в республиках – не казался надежным и прочным. В то время как Франция и Испания превращались в мощные абсолютистские государства, культурная и все еще очень богатая Италия утрачивала не только гражданские свободы, но свою национальную независимость.
В 1494 году в Италию вторглись полчища французского короля Карла VIII, заявившего династические претензии на неаполитанский престол. Французы прошли по всему полуострову от севера до юга, но не встретили нигде ни малейшего сопротивления. Миланский герцог Людовико Моро, папа Александр VI Борджа и правительство Венеции не сочли для себя выгодным вступиться за Неаполь, потому что они видели в королевстве только лишнего конкурента и соперника. «Все постоянно толкуют мне об Италии, – иронизировал Моро, – а между тем я ее никогда не видел». Это было началом конца. В 1499 году в Италии появилась армия преемника Карла VIII Людовика XII. На этот раз французский король предъявил права не только на Неаполитанское королевство, но и на Ломбардию, и она была тут же присоединена к его владениям. На Неаполь теперь зарилась также и Испания. В 1500 году в только что освобожденной от мавров Гранаде Испания и Франция подписали договор о разделе территорий всей Южной Италии. После этого более пятидесяти лет в Италии не прекращались жесточайшие войны между Испанией, Францией и империей. Итальянские государи и папы принимали в них самое деятельное участие. Рассчитывая округлить собственные владения за счет соседа, они слепо и беззастенчиво торговали землями, кровью и свободой всего итальянского народа.
В этих условиях социальное и идейное размежевание внутри итальянского гуманизма неминуемо должно было принять особенно резкие формы. Писателям Возрождения приходилось теперь либо сознательно закрывать глаза на бушующие вокруг них политические вихри и, все больше отстраняясь от слишком страшной реальной действительности, искать спасения в гавани «чистой поэзии», либо, развивая дальше, углубляя и актуализируя этико-политические концепции Петрарки, Бруни, Поджо, Понтано, стремиться обуздать политическую бурю национального кризиса с помощью тех сил, которые давали им разум и их «studia humanitatis» – «наука о человечности». Макиавелли пошел по второму пути. Вот почему его произведения, отражая глубочайший кризис итальянского общества на рубеже XV и XVI столетий и являясь формой его гуманистического осознания, не были сами по себе выражением кризисности ренессансного мировоззрения. Ни в одном из них невозможно обнаружить панической растерянности пред хаосом бытия. Макиавелли изображал трагическую дисгармонию жизни не во имя эстетического утверждения дисгармоничности как естественного состояния мира, а ради ее этико-политического преодоления. В возможности такого преодоления автор «Государя» никогда не сомневался. Его веру в конечное торжество разума питала связь с наиболее живой частью итальянского общества. Именно политическая мысль Макиавелли, при всем его типично гуманистическом презрении к «черни», явилась, по словам несправедливо забываемого у нас и очень неортодоксального марксиста Антонио Грамши, одновременно и реакцией на гуманитарно-филологическое Возрождение XV века, и «провозглашением политической и национальной необходимости нового сближения с народом». «Установление иностранного господства на полуострове, – писал Грамши, – в XVI веке сразу же вызвало ответную реакцию: возникло национально-демократическое направление Макиавелли, выражавшее одновременно скорбь по поводу потерянной независимости, которая существовала ранее в определенной форме (в форме внутреннего равновесия между итальянскими государствами при руководящей роли Флоренции во время Лоренцо Великолепного), и вместе с тем зародившееся стремление к борьбе за восстановление независимости в исторически более высокой форме – в форме абсолютной монархии по типу Испании и Франции».
Никколо Макиавелли родился 3 мая 1469 года во Флоренции. Род его был старинный, дворянский. У него имелся свой герб: голубой крест на серебряном фоне с четырьмя голубыми гвоздями (clavelli) по краям. Но голубой кровью Макиавелли никогда не кичились. Уже в середине XIII века, когда Флоренцию раздирали распри между гвельфами и гибеллинами, они встали на сторону народа и с тех пор всегда считались «добрыми пополанами». Многие из них были гонфалоньерами и входили в правительство в те годы, когда городом правили богатые купцы и сукноделы, которых именовали тогда «жирный народ». Однако никто из предков Никколо ничем особенным себя не прославил. Богатства они тоже не нажили. Отец Никколо, мессер Бернардо ди Никколо ди Буонисенья, не был уже даже «жирным». Правда, у него сохранилось небольшое имение в Сант-Андреа подле Сан-Кашано, но доход оно приносило мизерный. «Я родился бедным, – скажет потом Макиавелли, – и познал тяготы нужды прежде, чем радость жизни».
Но на книги деньги выкраивались. В доме имелось первое печатное издание «Истории» Тита Ливия, и маленький Никколо читал ее взахлеб. Юстин служил ему учебником. То «постоянное чтение древних», о котором говорится в посвящении к «Государю», началось достаточно рано. Полибий, Аристотель, Макробий, Присциан, а также итальянские историки XV века были усвоены задолго до того, как Никколо Макиавелли с головой погрузился в политику.
Юный Макиавелли любил Данте, Петрарку, Боккаччо и увлекался флорентийским фольклором. Еще при жизни Лоренцо ди Медичи он сочинил несколько карнавальных песен, в которых нетрудно обнаружить влияние литературной манеры этого самого блистательного из всех «хозяев» Флоренции, да, пожалуй, и всей Европы. Но в окружение Лоренцо Макиавелли не попал. И не потому, что он был беден или не обладал нужными связями. Связи как раз имелись. Не было, по-видимому, большого желания служить «тирану», как называли Лоренцо его многочисленные враги и противники. В эпоху Возрождения «История» Тита Ливия воспитывала ярых республиканцев.
Однако и после изгнания Медичи из Флоренции Макиавелли довольно долго оставался не у дел. Джироламо Савонарола, несмотря на все его истерическое народолюбство, большой симпатии у Макиавелли не вызвал. Об этом свидетельствует письмо к Риччардо Риччи, в котором проповеди тогда еще всемогущего правителя Флоренции названы «враками». Савонарола считал себя орудием Бога, и скептику Макиавелли, у которого не было даже собственной Библии, это казалось весьма забавным. Он был уверен, что Савонарола просто хитрит и шарлатанит. Ему импонировали смелые нападки брата Джироламо на папу Александра VI Борджа, на Рим, на попов, но он никогда не мог одобрить ни фанатического стремления Савонаролы превратить Флоренцию в один сплошной доминиканский монастырь, ни тех методов, которыми пытался воздействовать на суеверные народные массы монах-диктатор. В «Государе» и в «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия» Макиавелли будет ссылаться на опыт Савонаролы только как на печальный опыт неудачного политика, «безоружного пророка», не сумевшего в нужный момент опереться на реальную силу, и поэтому «введенные им порядки рухнули, как только толпа перестала в них верить, у него же не было средств утвердить в вере тех, кто еще верил, и принудить к ней тех, кто уже не верил» («Государь», VI).
Падение Савонаролы открыло Макиавелли путь к государственной службе. В 1498 году, когда ему исполнилось двадцать девять лет, он был избран на должность секретаря второй канцелярии Синьории. Должность эта была не такая парадная, как пост первого секретаря республики – канцлера, но важная, хотя и хлопотная. Никколо она дала возможность приобрести тот «большой опыт дел нашего времени», без которого он никогда не стал бы Макиавелли.
Начальник второй канцелярии находился в распоряжении правительственной Коллегии десяти, ведавшей внешними делами республики, дипломатией и военными делами. Макиавелли оказался в самом центре той кухни, где делалась современная политика, и это ему очень нравилось. Еще меньше, чем кто-либо из гуманистов Возрождения, он был кабинетным мыслителем. Флоренция, во главе которой с 1502 года стоял пожизненный гонфалоньер Пьеро Содерини, быстро оценила острый ум, наблюдательность и неутомимость будущего автора «Рассуждений о первой декаде». В течение тринадцати лет Макиавелли посылали с самыми ответственными и вместе с тем наиболее деликатными миссиями. Он почти не бывал дома, и его жена монна Мариетта устраивала в палаццо синьории темпераментные скандалы. Зато он объездил всю Италию, побывал во Франции и Швейцарии и вел переговоры с самыми могущественными людьми тогдашней Европы – с королем Людовиком XII и его всесильным министром д’Амбуазом, архиепископом Руанским, с императором Максимилианом и с воинственным папой Юлием II. В обязанности Макиавелли входило присматриваться к обстановке, распознавать замыслы противника, усыплять его бдительность и регулярно отсылать подробные донесения своему правительству. Но подписывать договоры и соглашения он права не имел. Макиавелли был не послом республики, а ее политическим агентом. Лучшего агента не было, кажется, ни у одного правительства. Впрочем, иногда Макиавелли философствовал и пытался давать советы. Тогда его вежливо одергивали. «Ваш вывод чрезмерно смел, – упрекает Макиавелли его приятель и сослуживец Биаджо Буонаккорси, – излагайте точнее факты, а принимать решение предоставьте другим» (Письма, 28 октября 1502 года). Пьеро Содерини бесконечно доверял Макиавелли, но он считал его слишком большим фантазером и мечтателем.
Именно в те годы, когда Никколо Макиавелли не за страх, а за совесть служил Флорентийской республике, окончательно сложилось его мировоззрение, сформировался метод и выковались многие из тех чеканных идей-формул, жестокая парадоксальность которых до сих пор гипнотизирует исследователей и просто читателей. Проследить, как от соприкосновения с реальной политической действительностью рождались идеи и теории Макиавелли, было бы интересно и со многих точек зрения весьма поучительно. Однако сделать это в пределах одной статьи никак невозможно. Остановимся поэтому лишь на некоторых эпизодах в жизни флорентийского секретаря, наиболее тесно связанных с его художественным творчеством.
В 1502 году Макиавелли побывал в Ареццо, вскоре после того как в Вальдикьяне было подавлено антифлорентийское восстание, поднятое людьми Чезаре Борджа. В том же году он получил возможность лично познакомиться с этим тогда уже легендарным злодеем. Макиавелли был флорентийским представителем при Чезаре Борджа (в то время того чаще звали герцогом Валентино) сперва в Урбино, а затем в Имоле и Синигалье, где стал свидетелем кровавой расправы, учиненной Чезаре над злоумышлявшими против него кондотьерами. Наблюдения над действиями Чезаре Борджа, а также мысли, вывезенные Макиавелли из Ареццо, легли в основу двух литературно-политических очерков: «Описание того, как избавился герцог Валентино от Вителлоццо Вителли, Оливеротто да Фермо, синьора Паоло и герцога Гравина Орсини» и «О том, как надлежит поступать с восставшими жителями Вальдикьяны». Это наиболее ранние художественные произведения Макиавелли. По жанру их, пожалуй, следует отнести к эссе – к тем ренессансным «опытам», которые сделают жанром Монтень и Фрэнсис Бэкон. Если сравнить их с соответствующими донесениями Коллегии десяти, то нетрудно обнаружить, что в очерках Макиавелли не только не стесняется делать смелые философские выводы, впервые формулируя понимание политического искусства как гуманистического подражания древним, но и в какой-то мере искажает факты, стремясь типизировать и по-ренессансному идеализировать описываемые исторические события и характеры, придать им максимальную эстетическую выразительность. «Опыт» о Вальдикьяне предвосхищал историческую концепцию «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия». В нем, а еще больше в «Описании» содержалось «зерно» того мифологизированного образа Чезаре Борджа, который возникнет затем в «Государе».
И вот тут неизбежно возникает вопрос: как могло случиться, что Никколо Макиавелли, которого мы назвали одним из крупнейших гуманистов эпохи Возрождения, превратил Чезаре Борджа в своего рода «положительного героя»? Сделать вид, будто это не проблема, было бы неправильно. На отношении Макиавелли к Чезаре Борджа стоит остановиться. Это может помочь развеять одну из распространенных легенд.
Чезаре Борджа был враг. В 1502 году, когда с ним познакомился Макиавелли, ему было двадцать семь лет. Он был красив, хитер, энергичен и до крайности самоуверен. Судьба улыбалась ему, и он полагал, что ему все дозволено. Король Франции сделал Чезаре Борджа герцогом Валентинуа (по-итальянски Валентино), а его отец, папа Александр VI, назначил его главнокомандующим церкви. В конце XV и самом начале XVI века Чезаре Борджа не без успеха пытался создать в центре Италии сильное государство, изгоняя из городов Романьи мелких и вечно ссорящихся между собой тиранов. Возникновение такого государства на границах Тосканы создавало угрозу свободе всей Италии, но больше всего – Флоренции. Макиавелли это, конечно, понимал. Он знал, что за спиной Чезаре Борджа стоял папа и что победа герцога Валентино означала бы существенное укрепление политических позиций Ватикана. Еще в 1500 году, ведя в Нанте переговоры с кардиналом д’Амбуазом, Макиавелли разъяснял ему, что Людовик XII допускает грубейшую политическую ошибку, поощряя военную экспансию Александра VI и Чезаре Борджа.
Потом, вспоминая об этом, он писал: «Кардинал заметил мне, что итальянцы мало смыслят в военном деле, я отвечал ему, что французы мало смыслят в политике, иначе они не допустили бы такого усиления церкви» («Государь», III).
Мысль о том, что усиление светской, государственной власти католической церкви гибельно для Италии, развивалась многими гуманистами итальянского Возрождения. Макиавелли довел ее до конца и сделал все вытекающие из нее выводы. Он прямо заявлял, что, пока в центре Италии будет существовать папское государство, Италия никогда не станет ни единой, ни сильной, ни свободной. Лучше всего об этом сказано в «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия», в главе «О том, сколь важно считаться с религией и как, пренебрегая этим, по вине Римской церкви Италия пришла в полный упадок». Макиавелли шел гораздо дальше своих предшественников. Те были только антиклерикалами. Макиавелли замахнулся на догмы и нравственные основы христианства. Видя во всякой религии всего лишь орудие политического воздействия на массы, он полагал, что не может быть ничего вреднее и губительнее христианской проповеди. Именно католическая церковь, почитающая «высшее благо в смирении, в самоуничижении и в презрении к делам человеческим», сделала «мир слабым и отдала его во власть негодяям» («Рассуждения», II, глава 2). У Макиавелли получалось, что если не сам Христос, то уж, во всяком случае, современные церковники непосредственно ответственны за мерзостные действия папы Александра VI и его преступного сына Чезаре Борджа. Коли эти два отчаянных негодяя смогли превратить Рим в вертеп и безнаказанно заливать кровью Романью, «то причина этому, несомненно, подлая трусость тех, кто истолковал нашу религию, имея в виду праздность, а не доблесть» (там же).
Нет, никаких симпатий у флорентийского секретаря Чезаре Борджа вызвать не мог. До 1512 года Макиавелли делал все возможное, чтобы сохранить народоправство, возродившееся во Флоренции после 1494 года. Между тем при первом же свидании Борджа без обиняков заявил: «Ваше правительство мне не нравится; я не могу ему доверять, и надо, чтобы вы его сменили». Чезаре Борджа разговаривал с представителем Коллегии десяти как шантажист. Держал он себя на редкость нахально. Однако в первый момент Макиавелли поразила в Чезаре Борджа не только наглость. На какое-то время ему показалось, что Чезаре Борджа является сильной личностью, обладающей большим военным талантом. Как все в то время, Макиавелли находился под впечатлениями стремительного захвата войсками Борджа Урбино и Камерино. Урбино был взят столь молниеносно, что, по словам Макиавелли, «о смерти его прежнего властелина услышали раньше, чем о его болезни».
Побыв немного подле Чезаре Борджа, Макиавелли попросил прислать ему «Сравнительные жизнеописания» Плутарха. В этом проявился типичный гуманист Возрождения. Макиавелли хотелось разгадать секрет успехов Чезаре Борджа, и, видя в политике результат воли отдельной личности, он считал необходимым соотнести определенные качества герцога Валентино с «человечностью» в ее, как казалось гуманистам, наиболее частой, абсолютной форме, то есть с классической древностью. Такова была методика научно-исторического познания будущего автора «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия». Чезаре Борджа отнюдь не очаровал флорентийского секретаря, как это утверждали, а порой и все еще утверждают некоторые историки литературы; Макиавелли просто спокойно изучил заклятого врага своей родины. Ему казалось, что именно таким образом он сможет лучше понять, как помочь республиканской Флоренции.
В начале XVI века форма правления во Флоренции по-прежнему была наиболее демократической в Европе. Но флорентийская демократия с ее правительством, избиравшимся по жребию и меняющимся каждые два месяца, доживала последние дни. Она ослабла как в военном, так и политическом отношении. Даже война против небольшой Пизы оказалась ей не под силу. Если Флоренции удавалось еще кое-как сохранить свободу и независимость, то получилось это только потому, что ее пополаны, которых, видимо, можно назвать средневековой буржуазией, обладали достаточными богатствами, чтобы покупать помощь короля Людовика XII, этого, как выражался Чезаре Борджа, подлинного «хозяина нашей лавочки». Но Макиавелли делал все возможное, чтобы убедить флорентийскую синьорию максимально укрепить свои внутренние и внешние позиции, ибо, «не обладая силой, государства не сохраняются, а катятся к собственной гибели». Это была центральная мысль речи «О денежных запасах». Макиавелли написал ее в 1503 году. Предполагалось, что она будет произнесена Пьеро Содерини. Речь содержала трезвый анализ положения Флоренции, зажатой между Францией, Венецией, папой и войсками герцога Валентино, и побуждала флорентийцев извлечь должные уроки из недавних неудач, когда действия Чезаре Борджа в Романье поставили республику на грань катастрофы. Но ни малейшего намека на желательность каких-либо перемен в государственном строе или хотя бы усиления личной власти пожизненного гонфалоньера в речи не заключалось. Напротив, она заканчивалась словами твердой уверенности в том, что флорентийский народ, держа дело свободы в своих руках, неизменно будет воздавать свободе «тот почет, какой ей всегда воздавали люди, родившиеся свободными и стремящиеся к свободной жизни».
Во всех своих произведениях 1502–1512 годов Макиавелли старался не покидать позиций традиционной и к этому времени в значительной мере устаревшей флорентийской демократии. Однако ради укрепления мощи республики он уже тогда считал оправданными самые крайние меры. В сочинении «О том, как надлежит поступать с восставшими жителями Вальдикьяны» давалась достаточно жесткая формула действий по отношению к тем союзникам Флоренции, которые, отделившись от нее, вздумали бы отстаивать собственную свободу и независимость. Исходя из предположения, что знание истории необходимо людям для того, чтобы «подражать народу, который стал владыкой мира», Макиавелли пытался внушить своим читателям, будто древние римляне, решая судьбу восставших земель, «думали, что надо или приобретать их верность благодеяниями, или поступать с ними так, чтобы впредь не приходилось их бояться; всякий средний путь казался им вредным». «Надо либо облагодетельствовать восставшие народы, либо вовсе их истреблять…»
«Либо – либо» – это уже стиль мысли зрелого Макиавелли. Впоследствии он не раз будет говорить о губительности «средних путей» и политических компромиссов. Однако пожизненный гонфалоньер Флоренции предпочитал как раз «средние пути». Он был человек мягкий и гуманный. Макиавелли ему искренне симпатизировал. Об этом свидетельствуют письма, памятная записка «Паллескам» и многие места в «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия». Но Макиавелли отнюдь не считал пожизненного гонфалоньера политиком на все времена. «Пьеро Содерини, – говорил он, – во всех своих действиях проявлял человечность и терпимость. Пока время соответствовало его образу действий, и он сам и его родина благоденствовали. Но затем настала пора, когда надо было отбросить терпимость и доброту…» («Рассуждения», III, 9) Содерини, возможно, и понимал, что «необходимо убивать сыновей Брута», но сам он оказался на это неспособным (см. «Рассуждения», III, 3). Трагедия эпохи состояла в том, что гуманность оказывалась почти всегда политически вредной и тоже оборачивалась злом и для отдельной личности, и для народа. Идеализированный образ энергичного Чезаре Борджа возник в первых художественных произведениях Макиавелли в значительной мере как антипод терпимому, человечному, но посредственному Пьеро Содерини. Образ этот воплотил в себе гуманистическую и, как это на первый взгляд ни парадоксально, демократическую тенденцию литературы зрелого итальянского Возрождения.
Политические эссе Макиавелли были адресованы – предвосхищая в этом «Государя» – уже не «мудрецам» из флорентийского правительства, требовавшим от своего агента фактов, а не обобщений, но более или менее широкой массе, так сказать, простых и «неосведомленных» читателей. В современной Макиавелли Флоренции «неосведомленным» был «революционный класс того времени, „народ“, итальянская „нация“, городская демократия, выдвинувшая из своей среды Савонаролу и Пьеро Содерини» (А. Грамши). Но городская демократия во Флоренции все дальше и дальше отходила от народных низов. Она становилась властью пополанской верхушки, олигархией «жирного народа», склонной идти на соглашения с феодализмом или, во всяком случае, с Медичи. Макиавелли на каждом шагу убеждался, что ни Савонарола, ни сменивший его Пьеро Содерини не способны осуществить политику, которая обеспечила бы его родине свободу и независимость. Поэтому, стремясь активно воздействовать на действительность и адресуя свои произведения непосредственно народным силам городской демократии Флоренции, он полагал необходимым идеализировать ее, казалось бы, самых смертельных врагов – Чезаре Борджа, а затем Каструччо Кастракани. Можно предположить, что Макиавелли стремится убедить эти силы в желательности сильной власти, в необходимости иметь такого лидера, который знал бы, чего он хочет, и умел бы достигать того, что он хочет, и принять такого лидера с энтузиазмом, даже если его действия поначалу будут противоречить (или казаться противоречащими) общераспространенной идеологии того времени – религии. «„Ярость“ Макиавелли, – справедливо заметил Грамши о Макиавелли, – обращена против пережитков феодального мира, а не против прогрессивных классов. Государь должен положить конец феодальной анархии – и именно это делал герцог Валентино в Романье, опираясь на производительные классы, на купцов и крестьян». Гуманизм Возрождения был идеологией антифеодальной, и Макиавелли не мог не считаться с тем, что Чезаре Борджа пользовался популярностью у народных, крестьянских масс Центральной Италии в той мере, в какой он подавлял власть мелких тиранов, кондотьеров и т. д.
Все это может объяснить, почему Макиавелли создал «Описание того, как избавился герцог Валентино от Вителлоццо Вителли, Оливеротто да Фермо, синьора Паоло и герцога Гравина Орсини», а также и то, почему он придал этому сочинению художественную форму. Но это, конечно, не исключает ни того, что реальный, исторический Чезаре Борджа был изощренным злодеем и деспотом, ни того, что жертвами его деспотизма в итоге оказывались как гуманистическая интеллигенция, так и простой народ. В том, что гуманист и республиканец Макиавелли именно тогда, когда он апеллировал к разуму и чувствам «неосведомленного» читателя, вынужден был эстетически идеализировать врага флорентийского народоправства и «сверхтирана», было заложено глубокое противоречие. Оно было порождено временем и в той или иной мере было свойственно всему гуманизму эпохи Возрождения. Но это нисколько не уменьшало его трагичности.
С наибольшей глубиной трагические противоречия гуманизма Макиавелли обнажатся в «Государе», однако они проступают во всех, даже второстепенных, его сочинениях первого периода. В них они особенно заметны, потому что чаще всего еще не примирены.
Макиавелли отнюдь не сразу пришел к ясному осознанию различия стремлений народа и верхушки «жирного» пополанства Флоренции, давно растерявшего свой былой демократизм, свою антифеодальную революционность. Его представления об экстраординарности Чезаре Борджа разрушились уже в конце 1503 года.
Макиавелли присутствовал на знаменитом римском конклаве, избравшем папой Юлия II, и стал свидетелем бесславного краха всей политики герцога Валентино. В нужный момент у Чезаре Борджа недостало ни ума, ни умения, и он малодушно поверил обещаниям нового папы, хотя, как замечает Макиавелли, «ему была известна та естественная ненависть, которую всегда питал к нему его святейшество, который не мог так скоро забыть десять лет своего изгнания» («Легация к Римскому двору»). «Герцог увлечен самоуверенностью, – доносил Макиавелли правительству Флоренции, – он думает, что слово другого должно быть прочнее, чем было его собственное». С иллюзиями относительно политического «гения» Чезаре Борджа Макиавелли расстался легко и, насколько можно судить по его донесениям во Флоренцию, без особого сожаления.
В 1504 году Макиавелли издал историко-политическую поэму в терцинах, названную им «Десятилетие». Это было его первое опубликованное произведение. У современников оно имело большой успех. В поэме часто упоминался Чезаре Борджа, но изображался он в ней совсем не так, как в политических эссе 1503 года. В «Десятилетии» герцог Валентино никак не идеализируется: наоборот, здесь он – зловещий, коварный «василиск», сладким свистом заманивающий в ловушку своих врагов. Говоря о бесславном конце политической карьеры Чезаре, Макиавелли замечает, что такого конца и «заслуживал восставший на Христа». Подобная формулировка могла бы озадачить в «Государе» и «Рассуждениях», но в «Десятилетии» она – естественна. В 1502–1512 годах, считая, что политики Флорентийской республики должны учиться смелости и решительности у людей вроде Чезаре Борджа, Макиавелли еще надеялся, что Флоренция сможет обойтись без диктатуры, как он выражался, «нового государя», то есть не просто тирана, а истино народного вождя. Так же как в речи «О деньгах», исторические события оценивались в «Десятилетии» с позиций традиционной флорентийской демократии. Макиавелли намеренно не поднимался в поэме ни над разумом, ни над предрассудками своего народа. В 1504 году ему еще очень хотелось верить в возможность превратить Флоренцию в сильное государство, не производя насильственных преобразований в ее политическом строе. Путь к этому Макиавелли усматривал в замене наемных отрядов, возглавляемых продажными кондотьерами, регулярной «национальной гвардией», вербуемой из свободных граждан свободной республики. Поэма «Десятилетие» заканчивалась призывом к флорентийскому народу не терять веры в своего «искусного кормчего» (т. е. в Пьеро Содерини), но, дабы путь к цели оказался «легче и короче», «открыть храм Марса».
В 1505–1512 годах Макиавелли, не переставая исполнять многочисленные поручения флорентийского правительства, связанные с внешней политикой – в эти годы он несколько раз побывал в Швейцарии и во Франции, – отдавал все свои силы созданию народного ополчения, возглавляя специально для него созданную Коллегию девяти по вопросам милиции. К этому времени относится целый ряд его военно-теоретических сочинений, важнейшее из которых «Рассуждение о том, как учредить во Флоренции регулярную армию» (1506).
После того как на папский престол сел воинственный Юлий II, образование собственной, «национальной», армии стало для Флоренции вопросом жизни и смерти. Новый папа с еще большей энергией, чем Чезаре Борджа, сколачивал в центре Италии церковное государство, ловко манипулируя противоречиями между тогдашними великими державами. Он то натравливал Испанию, Францию и Империю на Венецию, то вступал в военный союз с Венецией и Испанией против своего недавнего союзника Франции. Долго сохранять нейтралитет в такой ситуации Флоренция, разумеется, не могла. Весной 1512 года папа Юлий II в ультимативной форме потребовал от флорентийской синьории, чтобы она изменила своей традиционной дружбе с Людовиком XII, вступила в антифранцузскую Священную лигу, изгнала Пьеро Содерини и разрешила Медичи вернуться на родину. Синьория отклонила ультиматум, и Макиавелли принялся готовиться к защите республики. Он действовал быстро, умно и энергично. Однако его планы создания боеспособного ополчения разбились об упорное сопротивление правящего во Флоренции «жирного народа», все время спекулирующего на страхе республиканцев перед тиранией военного вождя. Провести все нужные реформы Макиавелли не удалось, и созданная им милиция разбежалась при первом же натиске противника. 29 августа 1512 года испанцы взяли Прато. Город был отдан на разграбление. С иноземными войсками, которые, по словам тогдашнего поэта, «громили все монастыри и всякую церковь превращали в бордель», в Тоскану вернулся кардинал Джованни Медичи, благословляемый папой Юлием II.
Катастрофический разгром флорентийского народного ополчения объясняется вовсе не тем, что Макиавелли плохо разбирался в военном деле. Правда, он недооценил артиллерию, но это вовсе не мешает назвать его «первым достойным упоминания военным писателем Нового времени». В 1512 году судьбу Флоренции решила отнюдь не артиллерия. В начале XVI века проблема армии была прежде всего вопросом политическим. Это была проблема классовых взаимоотношений между традиционной городской демократией «жирного народа» и политически бесправным, безжалостно эксплуатируемым городом крестьянством. Для того чтобы сформировать из крестьян флорентийского контадо регулярную армию, способную драться за свободу Флоренции, надо было превратить крестьян в полноправных граждан. «Жирный народ» именно потому так упрямо сопротивлялся военным реформам Макиавелли, что пополанская, бюргерская верхушка Флоренции не хотела жертвовать своими политическими, экономическими и классовыми привилегиями. Ученые и критики, полагающие, будто Макиавелли не понимал этого, явно преувеличивают политическую наивность флорентийского секретаря. Подобно большинству гуманистов Возрождения, Макиавелли были свойственны многие исторические заблуждения, но даже они у него становились революционными или, как говорил Грамши, «якобинскими». Огромна я заслуга Антонио Грамши в деле принципиально новой интерпретации творчества автора «Государя» состояла именно в том, что он первым связал, казалось бы, сугубо военные концепции Макиавелли не только со всем его дальнейшим творчеством (это в какой-то мере делалось и до Грамши), но и с общей исторической проблематикой назревавшей тогда в Италии национальной революции. Грамши полагал, что центральной идеей Макиавелли была идея формирования некоего «национально-народного единства», естественно, в тех пределах, в каких такая идея могла возникнуть у одного из самых смелых мыслителей XVI столетия. «Всякое образование народной, национальной коллективной воли, – писал Грамши, – остается невозможным, если широкие массы крестьян-землевладельцев не вторгнутся одновременно в политическую жизнь. Макиавелли считал возможным достичь этого путем создания народного ополчения, и именно это осуществили якобинцы во время Французской революции; вот в таком понимании событий и видно опередившее эпоху якобинство Макиавелли, явившееся источником (более или менее плодотворным) его концепции национальной революции».
Трусость флорентийских ополченцев под Прато доказала Макиавелли не ложность его военных теорий (они будут продолжать развиваться и в «Рассуждениях», и в диалогах «О военном искусстве»), а политическую дряблость «жирного народа» и, следовательно, насущную необходимость насильственных, революционных преобразований в политической и социальной структуре Италии и прежде всего, конечно, Флоренции. Впоследствии, размышляя о том, что погубило в 1512 году республику, Макиавелли всегда приходил к выводу, что главным злом была не военная слабость Флоренции, а нежелание мягкого и гуманного Пьеро Содерини прибегнуть к «экстраординарной власти и разорвать законы гражданского равенства» ради подавления внутреннего врага народоправства, то есть верхушки «жирного народа», жаждавшей реставрации Медичи, готовой идти на любые соглашения с феодальной реакцией («Рассуждения», III, 3). Вот тогда-то мысли Макиавелли снова вернулись к образу Чезаре Борджа.
В тот самый день, когда испанцы грабили Прато, во Флоренции произошел реакционный государственный переворот. Сторонники Медичи (их называли «паллески») захватили палаццо синьории и вынудили Пьеро Содерини удалиться в изгнание. Пожизненный гонфалоньерат был уничтожен. 1 сентября 1512 года Медичи вместе с войсками Священной лиги вошел во Флоренцию. «Таким образом, – писал Гвиччардини в „Истории Италии“, – свобода флорентийцев была подавлена силой оружия».
Одним из первых государственных институтов, уничтоженных новой властью, была Коллегия девяти по вопросам милиции. Новый режим, по свидетельству даже его ревностного приспешника Франческо Веттори, «был самой настоящей трагедией». Тем не менее кардинал Джованни Медичи и его брат Джулиано, следуя в этом традиции Лоренцо Великолепного, пытались сохранить некоторые институты традиционного для Флоренции народоправства. Поэтому многие правительственные чиновники, в том числе и секретарь первой канцелярии, сохранили свои посты. Однако на Никколо Макиавелли политическая терпимость новых хозяев Флоренции не распространялась. Им слишком хорошо были известны его идеи и его деятельность. 7 ноября 1512 года Макиавелли, как явный сторонник народоправства, был лишен всех своих должностей и приговорен к годичной высылке за пределы города. Дело, однако, этим не ограничилось. В начале 1513 года его арестовали по подозрению в причастности к антимедичийскому заговору, возглавляемому П. П. Босколи и Лукой Каппони. Макиавелли был заключен в тюрьму и подвергнут пыткам. Доказать его вину все-таки не удалось. В марте 1513 года в связи с вступлением на папский престол Джованни Медичи, ставшего с этого времени именоваться Львом X, Макиавелли был амнистирован и отправлен в свое именьице в Сайт-Андреа. Для Макиавелли начались серые годы засасывающей повседневности. Крушение республики и свое отстранение от участия в политической жизни Флоренции он воспринял как огромную личную трагедию. Именно в эти годы его скептицизм стал пессимистическим. Жить жизнью обывателя Макиавелли не умел и, главное, не хотел.
О жизни Макиавелли в Сант-Андреа лучше всего рассказал он сам в знаменитом письме от 10 декабря 1513 года, адресованном Франческо Веттори, флорентийскому послу в Риме. В нем особенно поражает фраза Макиавелли о своей злосчастной судьбе: «Пусть топчет она меня на здоровье, а я погляжу, не станет ли ей стыдно».
Макиавелли по-прежнему остро интересовался политикой. Порой ему случалось давать Веттори дельные советы. Но он уже не слишком рассчитывал на то, что к ним захотят прислушаться. «Не могу забивать вам голову воздушными замками, – извиняется Макиавелли в одном из писем к другу. – Судьба устроила так, что мне суждено размышлять о делах государственных, ибо я не умею рассуждать ни о производстве шелка, ни о производстве сукон, ни о доходах, ни о расходах: мне необходимо либо обречь себя на молчание, либо говорить о политике». Под письмом – печальная подпись: Никколо Макиавелли, quondam Secretarius, некогда секретарь. Он вдруг почувствовал себя бесконечно одиноким. Оказалось, что у него нет настоящих друзей. Никто не хотел прийти на помощь опальному и впавшему почти в нищету республиканцу. Даже Веттори. Вокруг все кричали, что папа Лев X осыпает золотом писателей и художников, а Макиавелли не знал, как прокормить семью. В июле 1517 года он жаловался своему племяннику: «Я поселился в деревне по причине бедствий, которые испытал и испытываю. Нередко проходит месяц, а обо мне никто даже не вспомнит…»
Однако Макиавелли был слишком большим человеком, чтобы впасть в отчаяние. В деревне, в старом дедовском доме, который местные крестьяне презрительно именовали «трактиришко», ибо он примыкал к грязной придорожной корчме, Макиавелли много и напряженно работал. Годы, когда он непосредственно не занимался политикой (1513–1525), стали временем плодотворного осмысления всего того опыта, который был накоплен на службе у Флорентийской республики. Это – второй период в его творчестве. В это время были созданы все самые значительные произведения Макиавелли.
В 1513 году была начата работа над «Рассуждениями о первой декаде Тита Ливия». В конце того же года Макиавелли буквально на одном дыхании написал «Государя». Он намеревался посвятить его новому правителю Флоренции Джулиано Медичи, герцогу Немурскому, но в 1516 году Джулиано умер, и тогда в посвящении появилось имя Лоренцо Медичи-младшего, внука Лоренцо Великолепного. Макиавелли рвался к политической деятельности и настолько хотел, чтобы «эти господа Медичи» разрешили ему трудиться на благо родины, что готов был для этого «ворочать камни».
Тем не менее было бы очень неправильно объяснять возникновение «Государя» какими-то конъюнктурными соображениями, а тем более изменой Макиавелли своим прежним республиканским идеалам. Ни пытки, ни лишения, ни духовное одиночество не сломили бывшего флорентийского секретаря и не превратили его в вульгарного приспособленца. «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» стали одной из самых вольнолюбивых книг европейского Возрождения, а в том, что между «Государем» и «Рассуждениями» не существует принципиальных противоречий, теперь, кажется, мало кто сомневается. «Государь» органически вырос из по-гуманистически республиканских «Рассуждений». Он родился в тот самый момент, когда Макиавелли, который всегда любил родину больше, чем душу, решил, что настало время пожертвовать душой ради родины. Государственный переворот 1512 года доказал ему, что не только «жирный народ», но и городские низы Флоренции приняли Медичи если не с восторгом, то, во всяком случае, без ропота и сопротивления. Народ безмолвствовал, и Макиавелли выразил готовность сотрудничать с новой властью. Но не потому, что он полностью разочаровался в народе. В посвящении, адресованном Лоренцо Медичи, Макиавелли специально подчеркнул, что «Государь» написан им с позиций человека «низкого и незаметного состояния», ибо, «для того чтобы правильно постичь природу государей, надо быть из народа».
Вне учета этого «народного» угла зрения, общая концепция «Государя» правильно понята быть не может.
От всех остальных политических сочинений эпохи Возрождения «Государя» больше всего отличает то, что его до сих пор читают и те, кого вовсе не интересует политика. Задуманная как строго научный трактат, небольшая книга Макиавелли не только глубоко и всесторонне отразила историческую трагедию Италии, но и придала ей черты эстетической общечеловечности. Это первая великая трагедия европейского Возрождения.
«Что развивается в трагедии? – спрашивал Пушкин. – Какова цель ее? Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная».
Главным героем «Государя» является Человек – тот идеал человека, который создали поэты и мыслители итальянского Ренессанса.
Беседуя в Сант-Андреа с древними, в сотый раз склоняясь над знакомыми с детства страницами, Макиавелли пытался понять причины национальной катастрофы, постигшей его родной город, а также и всю Италию. Их оказалось много: церковь, которая «держала и держит нашу страну раздробленной» («Рассуждения», I, 12), наемные войска, разбегающиеся при виде солдат Людовика XII и Гонсальво Кордовского, кондотьеры, которые «довели Италию до рабства и позора» («Государь», XII), наконец, политическая бездарность итальянских государей, обусловленная даже не столько их личной тупостью, сколько слепотой, так сказать, классовой, исторической – их фатальной неспособностью придерживаться «правильной», «разумной» политики по отношению, с одной стороны, к народу, а с другой – к феодальному дворянству, классу, по глубокому убеждению Макиавелли, паразитическому, являющемуся вечным источником смут и анархии («Рассуждения», I, 55).
Несомненно, в настоящее время не представило бы большого труда установить, что в своем анализе исторической ситуации Макиавелли опустил многие, и притом наиболее существенные, экономические и социальные причины, обусловившие военную и политическую слабость итальянских государств в ту пору, когда они одно за другим делались жертвой французской и испанской агрессии. Однако для раскрытия эстетической концепции «Государя» это не так уж важно. Важнее не пропустить другое. Макиавелли с поразительной для его эпохи исторической проницательностью сразу же ввел народ в политическую диалектику трагических противоречий современной ему действительности. «Если мы обратимся к тем государям Италии, которые утратили власть, – писал он в „Государе“, – [то выяснится, что] некоторые из них враждовали с народом либо, расположив к себе народ, не умели обезопасить себя со стороны знати» (XXIV).
Можно ли было как-то парализовать действия отмеченных Макиавелли причин? Имелась ли хоть малейшая возможность преодолеть кризис – выйти из того мрачного тупика, в который завела Италию не судьба, не Божественное предопределение, о котором вещал Савонарола, а, казалось бы, всего лишь «неумелость» ее правителей, светских и духовных? («Государь», XXIV). Предшествующие «Государю» «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» доказывают, что такого рода возможности Макиавелли, по существу, не видел. Он вовсе не считал, что всегда правы те, кто во всех случаях отдает предпочтение древности, однако сам он оценивал общественную и политическую ситуацию в современной ему Италии до крайности пессимистически. Макиавелли знал, что история никогда не стоит на месте, но не верил в абсолютность прогресса. «Находясь в вечном движении, – утверждал он, – дела человеческие идут либо вверх, либо вниз». В отличие от Франции, Турции и Германии, Италия, по мнению Макиавелли, достигла к началу XVI века крайней степени нравственного и политического падения. Тут ее можно было сравнивать только с Грецией: «Некогда в странах сих было чем восхищаться, ныне же ничто в них не может искупить крайней нищеты, гнусности и позора» («Рассуждения», II, введение).
Отправной точкой для размышлений Макиавелли служила всегда Флоренция. Именно насильственное уничтожение «народного правления» больше всего доказало Макиавелли полнейшее нравственное разложение Италии, не позволяющее «ждать от нее чего-либо хорошего» («Рассуждения», I, 55), то есть возвращения к свободе, независимости и «нормальной», «политической жизни». В этом смысле особенно показательна восемнадцатая глава первой книги «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия». В ней, по-видимому, мы присутствуем при рождении «Государя».
В ходе историко-политических сопоставлений республиканского Рима с Флоренцией Макиавелли поставил вопрос: «Каким образом в развращенных городах можно сохранить свободный строй, если он в них существует, или создать его, если они им не обладают?» Удовлетворительного ответа на него он так и не нашел. Мысль о постепенном и мирном оздоровлении разложившихся форм общественной жизни была им отброшена сразу. Но и «внезапное обновление названных порядков» в городе-государстве, вроде современной ему Флоренции, представлялось Макиавелли маловероятным. «Для этого, – объяснял он, – недостаточно использования обычных путей – здесь необходимо будет обратиться к чрезвычайным мерам, к насилию и оружию и сделаться прежде всего государем этого города, чтобы иметь возможность распоряжаться в нем по своему усмотрению». То, что насилие исключает свободу, для Макиавелли было совершенно ясно. Логика его, как всегда, была железной: «добрый человек» никогда не согласится стать государем, опираясь на «чрезвычайные меры», и не захочет «идти путем зла, даже преследуя благие цели», а злодей никогда не использует «чрезвычайные меры» для восстановления в развращенном городе «свободного строя» именно потому, что он – злодей. Вывод мог быть лишь один, и Макиавелли его сделал: «Из всего вышесказанного следует, что в развращенных городах сохранить республику или же создать ее – дело трудное, а то и совсем невозможное».
Подобно всем писателям Возрождения, Макиавелли был индивидуалистом. Истинным творцом истории он считал не Бога, а Человека, равновеликого Богу в своих творческих, созидательных возможностях. История, утверждали гуманисты, дело рук одиноких титанов. Вместе с Богом они исключали из сферы исторического творчества также и Народ. В одной из первых же глав «Рассуждений» Макиавелли утверждал: «Следует принять за общее правило следующее: никогда или почти никогда не случалось, чтобы республика или царство с самого начала получали хороший строй или же преобразовывались бы заново, отбрасывая старые порядки, если они не учреждались одним человеком» (I, 9). В этой же главе Макиавелли ссылался на Ромула, заложившего основы величия Рима, и Клеомена, который, вернув «развращенную» Спарту к ее здоровым началам, «полностью восстановил законы Ликурга». Однако и современную ему Флоренцию, и всю остальную Италию не могли уже спасти даже такого рода сильные личности. В восемнадцатой главе «Рассуждений» Макиавелли вспомнил и о Ромуле, и о Клеомене, но только для того, чтобы сказать: «Не могу не отметить, что оба они не имели дела с материалом, испорченным той развращенностью, о которой мы рассуждали в этой главе».
Выхода не было.
Безвыходность создала «Государя».
Опыт современной политики научил Макиавелли тому, что фортуна в делах человеческих значит много больше, чем это представлялось флорентийским неоплатоникам, сопоставлявшим человека с космосом, а не с историей. Он принимал как несомненную истину, «что люди могут способствовать предначертаниям судьбы, но не в состоянии помешать им». В то же время Макиавелли был убежден, что ничто не может оправдать малодушия человека, смирившегося пред неотвратимостью рока («Рассуждения», II, 29).
В начале XVI века перед итальянской гуманистической интеллигенцией встал тот же самый мучительный вопрос, который на заре столетия будет терзать мятежного принца Гамлета: «Что благородней духом?..» Автор «Государя» не захочет принять сложившуюся в Италии ситуацию как историческую неизбежность, с которой надо просто смириться. Он предпочел скорее вовсе отказаться от свободы, чем искать ее в чистой поэзии или религии – вне общества и вне истории. Именно в тот самый момент, когда Макиавелли осознал всю глубину нравственного и гражданского падения Италии, в нем взорвалась воля к сопротивлению злу. Он написал «Государя», потому что был наделен мироощущением трагического героя. Макиавелли сознавал: для того чтобы остаться человеком, необходимо, несмотря ни на что, вопреки всем очевидностям неминуемого поражения, мужественно «ополчась на море смут, сразить их противоборством» («Гамлет», III, 1).
«Государь» был порожден героической моралью эпохи Возрождения.
Выкладки рассудка не смогли подавить в гуманисте и интеллигенте Макиавелли чувства ответственности перед униженной родиной и порабощенным народом. Трезвый анализ политической ситуации подсказывал ему крайне пессимистические выводы, но совесть говорила: «Италия же, теряя последние силы, ожидает того, кто исцелит ей раны, спасет от разграбления Ломбардию, от поборов – Неаполитанское королевство и Тоскану, кто уврачует ее гноящие язвы» («Государь», XXVI).
Оскорбленное нравственное и национальное чувство звало к немедленным решительным политическим действиям. Надежду на успех Макиавелли черпал в самой беспредельности национальной катастрофы. «Развращенную» Италию не смогли бы спасти ни Ромул, ни Моисей, ни Кир, ни Тесей. Но ведь никому из них не приходилось действовать в столь же исключительной ситуации.
«Дабы обнаружила себя доблесть италийского духа, Италии надлежало дойти до нынешнего позора: до большего рабства, чем евреи; до большего унижения, чем персы; до большего разобщения, чем афиняне: в ней нет ни главы, ни порядка, она разгромлена, раздавлена, истерзана, растоптана, повержена во прах» («Государь», XXVI).
Исключительная историческая ситуация требовала соответственных – тоже исключительных, чрезвычайных – мер. До 1512 года Макиавелли допускал лишь легальные средства изменения существующего во Флоренции государственного строя. Но после того как этот строй был насильственно уничтожен продажной верхушкой «жирного народа», он стал уповать только на революцию. Макиавелли счел реалистичным на какое-то время отказаться от республики и попытаться использовать реставрированный Медичи режим политического насилия для освобождения Италии от иноземцев и последующего «оздоровления» государственных порядков в ее «развращенных» городах, в том числе и у себя на родине. Теоретически как гипотеза им в это время признавалось, что если бы в «развращенных» городах-государствах оказалось возможным возрождение общественной свободы, то в качестве первого шага к ней «необходимо было бы ввести в названных городах режим скорее монархический, нежели демократический, с тем чтобы те самые люди, которые по причине их наглости не могут быть исправлены законами, в какой-то мере обуздывались властью как бы царской» («Рассуждения», I, 18).
«Государь» призван был доказать правильность этой гипотезы.
Макиавелли твердо верил в разум. Он полагал, что с помощью разума можно найти выход даже из безвыходного положения. Надо только тщательно продумать все детали, отбросить прекраснодушие иллюзии и не принимать желаемое за действительность. Макиавелли способен был оценить благородство этических, общественных и политических идеалов своих непосредственных предшественников – гуманистов XV века, но, ища выход из тупика национального кризиса, он «предпочел следовать правде не воображаемой, а действительной» («Государь», XV). Современник Томаса Мора, он создавал своего «Государя» как произведение программно антиутопическое. Он даже иронизировал над изобретателями проектов идеальных обществ и государств: «Многие измыслили республики и княжества, никогда не виданные и о которых на деле ничего не было известно. Но так велико расстояние от того, как проистекает жизнь в действительности, до того, как должно жить, что человек, забывающий, что делается ради того, что должно делать, скорее готовит свою гибель, чем спасение».
Ирония Макиавелли оказалась горькой. Она обернулась против него самого. Несмотря на весь свои политический реализм, он не сумел выйти за пределы индивидуалистической идеологии европейского Возрождения. Утопическим проектам идеальных обществ и государств Макиавелли противопоставил все тот же гуманистический идеал самодовлеющего Человека. Революция в Италии, по его мнению, была под силу только очень сильной личности, еще более сильной, чем герои Ливия и Плутарха, а главное, еще более «разумной» – располагающей историческим опытом удач и ошибок всех строителей новых государств, от Ромула до Чезаре Борджа, и способной «правильно» реагировать на малейшие изменения в современном политическом положении. Макиавелли попытался проанализировать его спокойно и объективно, как настоящий ученый, и предусмотреть буквально все возможности. Образ главного героя «Государя» строился как своего рода антропоморфный ответ на комплекс политических вопросов, поставленных автором с предельной четкостью и реализмом. Однако, так как индивидуалистическая идеология Возрождения подлинно научного ответа на проблемы, связанные с национальным кризисом Италии, дать не могла, образ нового государя в книге Макиавелли неизбежно получился фантастическим, художественным, патетическим, идеальным и тоже по-ренессансному утопичным.
Но, конечно, идеальность главного героя «Государя» при всем том, что образ этот опирался на идеалы гуманизма итальянского Возрождения, оказалась очень непохожей на идеальность героев Альберти, Полициано и Пьеро делла Франчески. Почти обязательное для гуманистов утверждение: «человек добр» – перестало быть аксиомой. Новый государь, по мнению Макиавелли, не может в своей деятельности исходить из признания абсолютно доброй природы человека, ибо, «желая исповедовать добро во всех случаях жизни, он неминуемо погибает, сталкиваясь со множеством людей, чуждых добру» («Государь», XV). Не отрицая, что вообще-то было бы весьма похвально, если бы новый государь был человеком честным и прямодушным, Макиавелли тут же добавляет: «Однако мы знаем по опыту, что в наше время великие дела удавались лишь тем, кто не старался сдержать данное слово и умел, кого нужно, обвести вокруг пальца; такие государи в конечном счете преуспели куда больше, чем те, кто ставил на честность» (XVIII). Автор «Государя» не только указывает на практическую невозможность для своего героя обладать всеми традиционными общечеловеческими добродетелями, «потому что этого не допускают условия человеческой жизни», но и отмечает относительность этих добродетелей с точки зрения тех конечных политических и национальных целей, которые ставятся в «Государе» (XV). Поэтому доблесть нового государя, его «virtu», предполагает большую нравственную эластичность. Новому государю «надо являться в глазах людей сострадательным, верным слову, милостивым, искренним, благочестивым – и быть таковым на самом деле, но внутренне надо сохранять готовность проявить и противоположные качества, если это окажется необходимо» (XVIII).
На подобного рода признаниях основаны представления о циническом аморализме автора «Государя». Но Макиавелли меньше всего был циником. Противоречия между общечеловеческой моралью и реальной политикой осознавались им как трагические противоречия времени. В этом смысле особенно показательна глава «О тех, кто приобретает власть злодеяниями», где одновременно говорится и об образцовой доблести Агафокла, и о том, что «нельзя называть доблестью убийство сограждан, предательство, вероломство, жестокость и нечестивость» (VIII). Все творчество Макиавелли было попыткой найти рациональное разрешение этому противоречию. Опираясь на опыт реальной политики, не имевшей ничего общего ни с христианской, ни с общечеловеческой нравственностью, последовательно преодолевая трансцендентность средневековой идеологии, автор «Государя» искал новые критерии нравственности в земной действительности, и прежде всего в самой политической деятельности нового государя, направленной на общественное оздоровление Италии и освобождение ее от «варваров». Мерой добродетели-доблести при этом неизбежно оказывалась успешность действий сильной личности, благо которой постепенно начинает отождествляться с общественным благом, с благом Родины и Народа. Отсюда – нравственный утилитаризм «Государя» и отсюда же исторически закономерный отход Макиавелли от некоторых краеугольных принципов гуманистической идеологии Возрождения, порожденный не столько его мнимым аморализмом, сколько внутренними, историческими противоречиями самого ренессансного индивидуализма.
Макиавелли, как и его предшественники, тоже в ряде случаев склонен был резко противопоставлять сильную, творящую историю личность пассивной, аморфной черни. Это было одной из причин, почему он считал, что любые средства, обеспечившие новому государю победу, получат в этом мире общественное одобрение, «ибо чернь прельщается видимостью и успехом, в мире же нет ничего, кроме черни…» (XVIII). Однако такое традиционное для гуманизма Возрождения противопоставление личности толпе обернулось в «Государе» – и именно потому, что Макиавелли ввел его в границы реальной, исторической действительности, – несомненным ущербом для личности. Новый государь не обладает уже ни «божественностью» человека Фичино и Пико делла Мирандолы, ни «универсальностью» человека Альберти. Он даже человек только наполовину. Мифологическим образцом для него служит кентавр. «Государь должен усвоить то, что заключено в природе и человека, и зверя», – писал Макиавелли (XVIII). Основной «virtu» для Макиавелли была сила – военная сила. «Хороших законов не бывает там, где нет хорошего войска, и наоборот, где есть хорошее войско, там хороши и законы» (XII). Поэтому «государь не должен иметь ни других помыслов, ни других забот, ни другого дела, кроме войны, военных установлений и военной науки, ибо война есть единственная обязанность, которую правитель не может возложить на другого» (XIV).
Всестороннего развития личности идеал «Государя» отнюдь не предполагал. Главный герой «Государя» – это кондотьер, диктатор, тиран. Но не только. Это также патетическое отрицание реально существовавших в Италии кондотьеров, диктаторов и тиранов. В книге Макиавелли образ главного героя строится как нравственно-эстетическое противопоставление тем реально историческим государям Италии и Европы, действия которых проанализированы там с бескомпромиссной реалистичностью. Он – новый государь не только потому, что собственными руками создает в Италии «новое государство», но также и потому, что принципиально по-новому связан с народом. Появление «Государя» ознаменовало в культуре Возрождения не одни лишь нравственные утраты. Проблема взаимоотношений между народом и «новым государем» в книге Макиавелли едва ли не центральная. Решается она с поистине революционной смелостью.
Из по-гуманистически презрительных высказываний Макиавелли о «толпе» не следует делать вывод об антидемократичности «Государя». «Толпа», «чернь» – для Макиавелли не только городские низы, но и вся масса людей, противостоящая новому государю как пассивная «материя» истории. В понятие «чернь» у него входят и феодальные гранды. В посвященной Медичи книге, естественно, не смогли получить полного развития ни непримиримая ненависть Макиавелли к дворянству, резко проявившаяся в «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия» (I, 55), ни его жесткий антиклерикализм. Однако гуманистическая народность концепций Макиавелли проявилась в «Государе» достаточно наглядно.
Всячески подчеркивая пассивность масс, Макиавелли в то же время отнюдь не склонен был полностью игнорировать роль народа как определенной и притом, с его точки зрения, весьма внушительной исторической силы. Обычное для гуманистов отождествление народа с дерьмом объявляется им пошлой и затасканной поговоркой. В его «Государе» историческая роль народа обосновывается новаторской теорией сословной и классовой борьбы. Исходя из констатации того непреложного факта, что в каждом государстве идет непрекращающаяся война между народом и знатью, ибо «стремления их всегда различны» (IX), Макиавелли считал, что новому государю лучше всего прийти к власти, опираясь на народ. «Тому, кто приходит к власти с помощью знати, – писал он, – труднее удержать власть… нельзя честно, не ущемляя других, удовлетворить притязания знати, но можно – требования народа, так как у народа более честная цель, чем у знати: знать желает угнетать народ, а народ не хочет быть угнетенным» (IX).
Народ, таким образом, оказывается в «Государе» одним из главных источников общественной морали. Мораль эта носит подчеркнуто антифеодальный характер (XVI). Судьба человеческая сливается с судьбой народной. Главный герой книги Макиавелли оказывается антропоморфным воплощением коллективной воли народа, носителем народной диктатуры, направленной на подавление сопротивления немногих и имеющей своей конечной целью возрождение утраченной свободы, восстановление во Флоренции старых демократических учреждений и национальное объединение всей Италии. Именно в этом проявились народный аспект «Государя» и та концепция национальной революции, о которой говорил Грамши, проницательно разглядевший в Макиавелли далекого предшественника Великой французской революции.
Однако, воплощая в себе волю народа, или, как говорил Макиавелли, «итальянскую virtu», новый государь не перестает быть личностью, человеком, хотя и в чем-то ущербным. Он – не абстрактность сверхмощного государства. Вот почему неправильно рассматривать Макиавелли только как теоретика, а тем более апологета государственного абсолютизма, упрочившегося в XVI–XVII веках в наиболее развитых странах Европы. Выражая прогрессивные тенденции своего времени, гуманистическая мысль Макиавелли вместе с тем отличалась некоторым относительным консерватизмом, ибо сам исторический прогресс в эпоху Возрождения был относительным. Во всех своих сочинениях Макиавелли противопоставлял упадку и моральной «испорченности» Италии не абсолютистские монархии Франции или Испании, а вольные немецкие города, «здоровые» и демократические порядки в которых он был склонен явно идеализировать. Общественно-политические идеалы Макиавелли лежали, таким образом, не столько в будущем абсолютистской Европы, сколько в прошлом Италии с ее городскими республиками-коммунами. Но это-то и спасало автора «Государя» от буржуазной ограниченности. Именно отсутствие в Италии XVI столетия реальных предпосылок для развития производительных сил нарождающейся итальянской буржуазии обусловило не только гуманистическую антибуржуазность общественных, политических и эстетических концепций Макиавелли, но и тот его антиэтатизм, который роднил автора «Государя» с великими писателями трагического Возрождения. Макиавелли разделял не только их утопические надежды на «народного государя», но и их отвращение к абсолютистскому государству, поглощающему личность и отнимающему у человека эпохи Возрождения его последние вольности. Грядущий Левиафан никаких восторгов у Макиавелли не вызывал. «Из всех видов жестокого рабства, – писал он, имея в виду олигархическую Венецию, – самым жестоким является то, в которое ввергает тебя республика» («Рассуждения», II, 2), то есть хорошо отлаженное государство.
«Государь» завершается трагически-патетическим призывом к освобождению Италии от «варваров». Макиавелли обращался, с одной стороны, к «славному дому» Медичи, а с другой – и это чрезвычайно характерно – к гуманистической традиции Петрарки, цитата из которого завершает книгу. Здесь Макиавеллиево «virtu» приобретает еще одно качество. Она становится символом не просто индивидуальной, а национально-народной «доблести». Но это-то и превращает «Государя» в гуманистическую утопию. Утопический характер «Государя» – этого, казалось бы, программно-антиутопического опыта – заключается в том, что такого рода государь не существовал в исторической реальности, в то время он не выступал и не мог выступить перед итальянским народом как актуальная историческая сила.
В Италии начала XVI века не было уже революционного «пополо» и еще не сформировалась революционная буржуазия, то есть не существовало революционного класса, который мог бы осуществить антифеодальную программу Макиавелли. Именно это и заставило его, выражая исторические и национальные чаяния итальянского народа, прибегать не столько к разуму и к науке, сколько к гуманистическому мифотворчеству и к поэтической фантазии, воздействующих на разобщенный и распыленный народ, с тем чтобы пробудить в нем и организовать коллективную волю.
В этом смысле обращение Макиавелли в конце «Государя» к традиции граждански-гуманистической лирики итальянского Возрождения было чем-то вполне естественным и закономерным. Сила эмоционального воздействия «Государя» даже на нынешнего читателя объясняется органическим, гармоничным сочетанием в нем политического реализма, поэзии, гуманизма и народности.
Больше всего гуманистическая народность «Государя» проявилась в его художественной форме. В посвященной Лоренцо Медичи книге Макиавелли обращался не к узкому кругу политиканов, а к самому широкому читателю своего времени, то есть к народу, причем делал это так, что расстояние между ним и народом оказывалось сведенным до минимума. «Макиавелли, – как очень тонко подметил Антонио Грамши, – посвящает всю книжечку тому, каким должен быть государь, чтобы привести народ к созданию нового государства; изложение ведется с логической строгостью и научной отрешенностью, а в заключение сам Макиавелли становится народом, сливается с народом, но не с народом „вообще“, а с народом, которого Макиавелли убедил своим предшествующим изложением; в Макиавелли находит свое выражение сознание этого народа, он понимает эту свою роль, он ощущает свое тождество с народом. Кажется, что все „логическое“ построение есть не что иное, как рефлексия самого народа, откровенная беседа с самим собой, происходящая в его сознании и завершающаяся непроизвольным страстным криком. Страсть, порожденная размышлением о самом себе, вновь становится „аффектом“, лихорадкой, фанатической жаждой деятельности. Вот почему эпилог „Государя“ не есть нечто внешнее, „навязанное“ со стороны, риторическое; он должен быть истолкован как необходимый элемент произведения, даже как такой элемент, который проливает яркий свет на все произведение и придает ему вид политического манифеста».
Неудивительно, что Медичи не спешили использовать один из лучших умов своего времени. Их не увлекала роль национального мессии. Автор «Государя» продолжал оставаться в глазах правителей Флоренции человеком не вполне благонадежным. Когда в начале 1515 года до Рима дошли слухи, что Джулиано Медичи собирается взять на службу Макиавелли, папа Лев X через своего секретаря Пьеро Ардинчелли сурово отчитал правителя Флоренции за чрезмерное легкомыслие. «Напишите ему от моего имени, – приказал папа, – что я очень не рекомендую ему связываться с Никколо». «Государь», который в течение почти четырех столетий объявлялся практическим руководством для тиранов, был принят Медичи более чем холодно. Согласно рассказу, восходящему к самому Макиавелли, Лоренцо Медичи обнаружил несравненно больший интерес к паре собак, подаренных ему кем-то для случки. Только однажды правительство медичейской Флоренции решило воспользоваться дипломатическими талантами бывшего флорентийского секретаря. В мае 1521 года Макиавелли был послан в Карпи на генеральный капитул монахов-миноритов, где от имени кардинала Джулио Медичи ходатайствовал об обособлении флорентийских монастырей в особую «провинцию». Кроме того, консулы цеха шерсти поручили ему привести из Карпи во Флоренцию хорошего проповедника. Поручение было похоже на издевательство. Макиавелли отнесся к нему как к типично флорентийскому розыгрышу и вместе со своим приятелем Франческо Гвиччардини устроил в монастырской «республике деревянных сандалий» веселый спектакль, достойный автора «Мандрагоры».
Понимание Макиавелли нашел не в правящих верхах Флоренции, а у враждебной Медичи интеллигенции. В 1515 году он сблизился с Козимо Ручеллаи и Дзаноби Буондельмонти и сделался чем-то вроде идейного руководителя кружка оппозиционной молодежи, собиравшейся в Садах Оричиллари. Этот кружок стал одним из последних оплотов флорентийского республиканства. В нем Макиавелли не только читал, но и в значительной мере создавал свои «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», последняя книга которых была закончена, по-видимому, в 1519 году. Атмосфера бесед, ведшихся в Садах Оричиллари, ощущается и в некоторых других произведениях опального гуманиста, написанных в 1515–1520 годах, – в «Диалоге о нашем языке», в поэме «Золотой осел», в «Сказке о Бельфагоре», в комедии «Мандрагора», в «Жизни Каструччо Кастракани» и особенно в «Диалогах о военном искусстве».
В 1522 году над Макиавелли опять нависла гроза. Во Флоренции был раскрыт антиправительственный заговор, целью которого было уничтожение в городе тирании и убийство тогдашнего правителя Флоренции – кардинала Джулио Медичи. Заговор возглавляли Дзаноби Буондельмонти и Луиджи Аламанни. Все заговорщики были связаны с кружком Садов Оричиллари и, как о том свидетельствует историк XVI века Якопо Нарди, вдохновлялись идеями, изложенными в «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия». Однако на этот раз гром почему-то не грянул. Макиавелли не был даже арестован, хотя Джулио Медичи были известны и личные связи Макиавелли с заговорщиками, и его республиканские симпатии. По-видимому, кардинал решил, что имеет дело с безвредным теоретиком, и, вместо того чтобы еще раз подвергнуть Макиавелли пыткам, счел за лучшее направить его энергию по традиционно академическому руслу. Еще в 1520 году Флорентийский университет, патроном которого был Джулио Медичи, поручил Макиавелли написать «Историю Флоренции». В 1525 году она была закончена, и Макиавелли торжественно вручил свой труд заказчику, ставшему к этому времени папой Климентом VII.
«Флорентийская история» излагает события, развернувшиеся не только во Флоренции, но и во всей Италии, начиная с глубокой древности вплоть до 1492 года – года смерти Лоренцо Великолепного. Макиавелли сосредоточил в ней свое внимание не на войнах и внешней политике, как это делали его предшественники, историки-гуманисты XV века, а на раскрытии причин и следствий развернувшейся во Флоренции внутренней, социальной борьбы, «сперва между дворянством и народом, а затем между народом и плебеями» (введение). В европейской историографии это было смелым и плодотворным новаторством. По своей проблематике «Флорентийская история» вместе с диалогами «О военном искусстве», в которых определялись качества «virtu» идеального полководца, примыкала, с одной стороны, к «Государю», а с другой – к «Рассуждениям о первой декаде Тита Ливия», образуя с ними единый идейный комплекс. Ядром этого комплекса были «Рассуждения». В них гуманистическая идеология Макиавелли получила наиболее широкое и всестороннее освещение, хотя, несомненно, и не такое яркое, как в «Государе».
«Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» состоят из трех книг. Основное содержание их: личность, народ, государство, история, родина. Мысль движется свободно, эссеистически. В «Рассуждениях» явственно ощущается собеседник, с которым автор делится своим жизненным опытом, наблюдениями и мыслями. В этом смысле «Рассуждения» Макиавелли предвосхищают «Опыты» Монтеня, на которые они оказали некоторое влияние. Приблизительно и имея в виду лишь круг самых общих вопросов, «Рассуждения» можно было бы разделить так: в первой книге говорится об истоках и внутренней структуре государства, во второй – об армии и военной экспансии, в третьей – рассматриваются причины, обусловливающие прочность республик, их прогресс и упадок.
Материалом для «Рассуждений» Макиавелли служат факты древнеримской истории, изложенные Титом Ливием, Полибием, Тацитом, Плутархом, Юстином и другими античными авторами. Рассуждая о событиях далекого прошлого, Макиавелли всегда имел в виду не древность как таковую, а прежде всего современность и даже общественно-политическое будущее Италии, которое он считал возможным предсказывать, опираясь на рационалистический анализ прошлого. Метод и общие концепции Макиавелли остались в «Рассуждениях» в основном теми же, что и в «Государе». Но в них Макиавелли оказался еще меньшим монархистом. От иллюзорных надежд на «славный дом» Медичи он освободился скоро. Посвящая «Рассуждения» Дзаноби Буондельмонти и Козимо Ручеллаи, Макиавелли счел необходимым специально подчеркнуть, что сделал это не только из благодарности за внимание к его трудам, но также потому, что не хотел быть похожим на тех «писателей, которые всегда имеют обыкновение посвящать свои сочинения какому-нибудь государю и, ослепленные честолюбием и корыстью, восхваляют его за всевозможные доблести, хотя им следовало бы клеймить его за гнусную порочность».